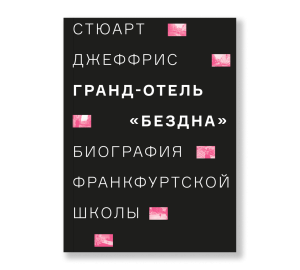Скука и масса у Зигфрида Кракауэра

Герой эссе Зигфрида Кракауэра Скука испытывает скуку, блуждая по городским улицам, рассматривая дома в свете рекламы, проваливаясь в фотографические образы и темноту, наполненную шумом радиовещания. Мы же очень соскучились по городу и бесцельным прогулкам, нас захватила иная скука — сопряженная с довлеющей необходимостью ограничивать свое передвижение по пространству, отмеченному карантинными мерами. Чтобы напомнить вам и себе о времени, когда мы уставали от докарантинной повседневности, публикуем отрывок из сборника эссе Орнамент массы и текст Александра Иванова, в котором анализируются черты Кракауэровской концепции скуки.
Скука и масса у Зигфрида Кракауэра
Эссе Кракауэра Скука (1924) похоже на стихотворение в прозе. Его лирический герой бродит по ночному Берлину, грезя о чем-то неосуществимом. Преисполненный предчувствий, он как бы балансирует на грани сна и яви, подобно герою набоковского рассказа Тяжелый дым, тоже берлинского: «<…> форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ: его рукой мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником — хребтообразная туча через все небо с холодком звезд на востоке. Ни полосатая темнота в комнате, ни освещенное золотою зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя <…>».
Тело лирического героя Скуки врастает в асфальт, а его сознание безостановочно блуждает в сопровождении светящейся рекламы, то погружаясь в ночь, то на секунду выныривая из нее. В отличие от Набокова, чья поэтика замкнута на сознании героя, в мире Кракауэра на поэтический статус претендуют узнаваемые детали массовой культуры: сверкающие огни рекламы, которые без устали возносят с небес «хвалу ликеру и сигаретам по пять пфеннигов», выставленные в витринах салонов элегантные наушники для радиоприемников, безвкусные экранные образы, заполняющие своей навязчивой эфемерностью все пространство мира. Кракауэровский alter ego одновременно захвачен этим окружением и подавлен им, его эмоциональный спектр простирается от восторга перед массовыми образами и слияния с ними — до полного самоопустошения и прострации. В обеих крайних точках этого спектра и находится состояние, которое автор именует скукой. Она захватывает героя в процессе отчуждения его сознания в визуальных и аудио образах. В своей крайней фазе это отчуждение растворяет любую самость в чем-то безличном, что лишь наличествует, но не существует в полном смысле слова. Оно «существует, не существуя», то есть обладает каким-то смазанным, неопределенным статусом — как недопроявленная фотопленка. Эта его недоосуществленность описывается Кракауэром через образ мирового «нечленораздельного гула, которому претит всякое <отдельное> существование». Именно он, этот странный, неопределимый гул, чем-то напоминающий тютчевское «Жизнь, движенье разрешились/ В сумрак зыбкий, в дальний гул», и является у Кракауэра означающим «высокой», изысканной, радикальной скуки, скуки per se. В отличие от банальной скуки, всегда имеющей под собой какую-либо причину (монотонность работы или отдыха, навязчивость рекламы, всепроникающий характер «новых медиа» — радио и кино), высокая скука беспричинна — точнее, она создает себе причину сама и тем самым выносит себя за пределы всего сущего. Радикальная (высокая) скука является мета-скукой — и в этом своем качестве никак не может быть объективирована, оказываясь не в состоянии стать предметом чьего бы то ни было анализа, или опыта, или знания. Эта скука и есть то, что зовется тоской — беспричинной и всепоглощающей.
В написанной спустя пять лет после кракауэровской Скуки, но принадлежащей той же ментальной эпохе работе Что такое метафизика? Мартин Хайдеггер пишет: «Сколь бы расколотой, однако, не казалась повседневность, она все-таки, пусть лишь в виде тени, еще содержит в себе сущее как единство “целого”. Даже тогда, и именно тогда, когда мы не заняты непосредственно вещами и самими собой, нас захватывает это “в целом”, например при настоящей скуке. До нее еще далеко, когда нам просто скучна эта книга или тот спектакль, та профессия или это безделье. Она врывается, когда “берет тоска”. Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской приоткрывается сущее в целом». Таким образом, хайдеггеровская «скука» выводит нас в то измерение мира, перед которым, едва его тронув, останавливается Кракауэр. Это измерение получает у Хайдеггера имя бытия в его отличии от просто сущего. Скука и тоска здесь призваны лишь подступиться к той настроенности (Stimmung), что приоткрывает различие между сущим, у которого всегда есть причина (или основание), и беспричинным бытием, только и делающим сущее возможным. Следующий экзистенциал Хайдеггера, кладущий предел скуке, это не «великая Страсть», которая, как полагает Кракауэр, отменяет скуку, а ужас как состояние некоего «оцепенелого покоя», не имеющего ничего общего ни со страстью, ни со страхом, ни с боязнью чего-то конкретного. Именно ужас открывает нам двойника бытия — ничто: «В ужасе, говорим мы, “человеку делается жутко”. Что “делает себя” жутким и какому “человеку”? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезания, а вещи повертываются к нам своим оседанием как таковым. Проседание сущего в целом наседает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры. Остается и захлестывает нас – среди ускользания сущего — только это “ничего”. Ужасом приоткрывается Ничто» (Хайдеггер М. Время и бытие.СПб.: Наука, 2007. С. 28–30).
Скука Кракауэра — лишь небольшой, хотя и очень показательный, фрагмент его теории массовой культуры, центральным понятием которой становится оригинальный концепт «орнамента массы». В отличие от толпы, этой социологической nouveauté XIX века, масса — довольно необычное, трудно определимое понятие. Толпа всегда состоит из неких единичностей, это «составной объект». Вот, например, как описывает лондонскую толпу Фридрих Энгельс: «<…> они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не задерживались, и при этом никому и в голову не придет удостоить остальных хотя бы взглядом. Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, все же нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея» (Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Издательство политической литературы, 1955. С. 264).
Масса, как понимает ее Кракауэр, складывается не из монад, а из «частиц массы», то есть из такого материала, который не собирается в массу из отдельных человеческих единиц, а возникает вместе с нею и неотделим от нее даже в случае деления, дробления массы на фрагменты и части. Частицам орнамента массы (старшие поколения могут вспомнить катящуюся слезу огромного олимпийского Мишки, образованную телами статистов на трибуне олимпийского стадиона в Лужниках в 1980 году) «уже не вернуть человеческий облик», это «тела, навсегда утратившие изначальную цельность, изгибы сих тел не поддаются рациональному пониманию. Руки, бедра и другие органы становятся мельчайшими составляющими композиции» (Кракауэр З. Орнамент массы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 43). Это описание дышит какой-то доисторической архаикой в духе Эмпедокла:
Выросло много голов, затылка лишенных и шеи,
Голые руки блуждали, в плечах не имея приюта,
Очи скитались по свету, одни, безо лбов сиротея,
<…> одночленные части блуждали…
Но как скоро тесней божество с божеством сочеталось,
Стали тогда и они, как попало, сходиться друг с другом;
Множество также других прирождалося к ним беспрерывно,
<…> с ногами без сил и с руками без счету…
Множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых,
Твари бычачьей породы являлись с лицом человека,
Люди с бычачьими лбами, создания смешанных полов:
Женщин с мужчинами смесь, с бесплодными членами твари.
Орнаменты массы, которые складываются «из тысяч бесполых тел», возвращают тему скуки с неожиданной стороны. И дело тут даже не в очевидном кракауэровском предвосхищении нацизма, всех тоталитарных ритуалов и практик avant la lettre. Современность Кракауэра не в этом, а в его попытке обнаружить некую протоплазму, прафеномен социального как объекта. Именно в этом контексте его понятие скуки начинает играть роль уже не столько экзистенциала, сколько элемента социальной физики, которая формирует общую телесность еще до всякого отделения от нее индивида — того, кто обладает сознанием и способностью предаться скуке.
Текст: Александр Иванов
Скука
Люди, которые сегодня располагают временем для скуки и тем не менее не скучают, без сомнения, такие же скучные, как и те, которым не до скуки. Куда-то подевалось их собственное «я», чье присут- ствие, особенно в этом суетном мире, непременно заставило бы их, хотя бы ненадолго, жить без вся- кой цели, как бог на душу положит.
Большинству людей, конечно, недостает досуга. Они добывают пропитание, тратя все силы, что- бы получить самое необходимое. Дабы легче переносить утомительные обязанности, они изобрели трудовую этику, морально оправдывающую их занятия и дающую им известное внутреннее удовлетворение. Однако было бы слишком смелым полагать, будто гордость за то, что ты являешься моральным существом, рассеивает все виды скуки. Вульгарная скука, приходящаяся на долю ежедневного монотонного труда, не является предметом нашего рас- смотрения, поскольку она не способна ни убить, ни пробудить к новой жизни, но всего лишь выражает ту неудовлетворенность, которая проходит, стоит только найтись более приятному и морально одобряемому занятию. Несмотря ни на что, люди, чьи обязанности подчас заставляют их зевать, скучают меньше тех, кто занимается своим делом из интереса. Эти несчастные все глубже погружаются в ежедневную суету, под конец у них голова идет кругом, а та изысканная, радикальная скука, которая могла бы прийти им в голову, навсегда остается для них недостижимой.
В наши дни не осталось практически никого, кто не имел бы свободного времени. Контора уже
не является местом постоянного пребывания, а воскресные выходные сделались непременным атрибутом жизни. Иными словами, у каждого есть возможность в прекрасные часы досуга подняться на вершину праведной скуки. Между тем, если вам хочется ничего не делать, дела вас сами найдут: мир позаботится о том, чтобы вам не представилась возможность остаться наедине с собой. И даже если вы не интересуетесь окружающим, сам по себе этот мир слишком важен для каждого, кто хочет обрести в нем покой и умиротворение, необходимые, чтобы испытать ту возвышенную скуку, которой этот мир поистине достоин.
Вечером бродишь по улицам, переполненный тем неосуществимым, из которого может прорасти существенное. По крышам домов скользят сверкающие слова, и вот уже ты изгнан из собственной прострации в странность рекламы. Тело пускает корни в асфальт, а дух, тебе уже не принадлежащий, безостановочно блуждает в сопровождении просвещающих откровений светящихся надписей, то погружаясь в ночь, то выныривая из нее. О если бы ему было даровано избавление! Но, словно Пегас, скачущий карусельной лошадкой, он должен летать по кругу, без устали вознося хвалу небесам во славу ликера и сигарет по пять пфеннигов. Как будто некое волшебство вращает его вместе с тысячами электрических лампочек, из которых он снова и снова создает и воссоздает себя в виде сверкающих предложений.
Если бы дух ненароком обернулся назад, он бы тут же с охотой забыл о себе, лишь бы попаясничать на экране кинотеатра. Фальшивым китайцем сидит он в фальшивой опиумной курильне, превращается в дрессированного пса, выделывающего трюки в угоду кинодиве, устремляется навстречу горной лавине, становится цирковым дрессировщиком и львом одновременно. Да и как ему противостоять этим метаморфозам? Афиши направляют его в пустоту, заполнять которую собой ему неохота, они затягивают его в серебристый экран, пустой, словно оставленное людьми палаццо. И в один прекрасный миг, когда образы начинают наплывать друг на друга, в мире не остается ничего, кроме их эфемерности. Глазеешь на них и забываешь о себе, а темная бездна рождает иллюзию жизни, не принадлежащей никому, но поглощающей всех.
Схожим образом радио успевает осеменить живые существа еще до того, как их охватит хотя бы малейшая дрожь. Поскольку люди чувствуют себя подчиненными вещанию, они пребывают в состоянии перманентного оплодотворения, вечно беременные от Лондона, Эйфелевой башни и Берлина. Кто устоит против соблазна этих изящных наушников? Они блистают в салонах и обвиваются вокруг головы без всякой посторонней помощи — и вот, вместо того чтобы поддерживать утонченную беседу, которая, разумеется, может оказаться скучной, человек становится средоточием распространяемых по всему миру звуков, не допускающих, несмотря на содержащуюся в них объективную скуку, ни малейшего права на скуку субъективную. Ушедшие в себя и лишенные признаков жизни люди сидят рядом друг с другом так, словно их души витают где-то очень далеко. Но души не путешествуют по своему усмотрению, их гонит свора новостей — и вот уже не разобрать, охотники они или дичь. Даже в кафе, где хочется свернуться ежом и почувствовать себя незаметным, внушительных размеров громкоговоритель уничтожает последние следы частного существования. Его громогласные сообщения подчиняют себе пространство во время пауз в концерте, а официанты, пользующиеся им для громкой связи друг с другом, с негодованием отвергают безрассудные просьбы положить конец этой звукоимитации.
Пока испытываешь на себе все разновидности судьбы человека-антенны, пять континентов сходятся все ближе. На самом деле это не мы распространяемся по ним, скорее, это их культуры превращают нас в собственность своего безграничного империализма. Словно видишь один из тех снов, виной которым пустой желудок. Крошечный шарик катится к тебе издалека — подбираясь все ближе, он увеличивается в размере и наконец с шумом проносится по тебе. Не имея возможности ни остановить его, ни убежать прочь, ты лежишь, боясь пошевелиться, — беспомощная маленькая кукла, сметенная исполинским колоссом и испускающая дух в его объятиях. Побег невозможен. Даже если китайский узел будет изящно распутан, можете не сомневаться, что вас проберет до самых печенок американский боксерский поединок, и западный мир останется вездесущим, признаете вы это или нет. У всех событий мировой истории на нашем земном шаре — не только современных, но и давно прошедших, тех, чья жажда жизни не ведает стыда, — есть только одно желание: вызывать нас на рандеву, где бы мы, по их мнению, ни находились. Но хозяев уже не найти в их покоях: они в отъезде и их местопребывание неизвестно. А освободившееся жилье давно сдается под «вечеринки с сюрпризами», устроители которых выдают себя за владельцев квартиры.
Но что если не давать себя загнать? Тогда скука — это единственное подобающее занятие, ведь она предлагает известные гарантии в том смысле, что позволяет, если можно так выразиться, самостоятельно распоряжаться собственным существованием. Если бы человек не скучал, он бы, возможно, не существовал вообще и тем самым стал бы еще одним предметом для скуки, что мы и утверждали вначале. Он светился бы над крышами или наматывался на катушку наподобие кинопленки. Но если ты и в самом деле существуешь, для тебя не остается ничего другого, как испытывать скуку от вездесущего нечленораздельного гвалта, который никому не дает проходу, — и в то же время ты можешь обрести себя посреди этой галдящей жизни в качестве человека скучающего.
Солнечным днем, когда все пребывают под открытым небом, самое подходящее занятие — бродить по вокзалу или, на худой конец, остаться дома, задернуть шторы и, лежа на диване, предаться скуке. Охваченный tristezza (Грусть, печаль — итал.), заигрываешь с идеями, которые в ходе этого процесса начинают казаться заслуживающими внимания, или обдумываешь разные проекты, беспричинно претендующие на серьезность. Очевидно, что человек скорее склонен ничего не делать, чем согласиться остаться наедине с собой, не ведая, чем бы заняться — растрогаться ли стеклянным кузнечиком, который не может прыгать, потому что он стеклянный, или экстравагантностью маленького кактуса, которому наплевать на собственную странность. Легкомысленный, как и эти изящные создания, человек преисполнен беспокойства, лишенного всякой цели, страстного желания, которому не суждено реализоваться, и усталости от всего, что наличествует, не являясь при этом подлинно существующим.
Однако, если набраться терпения, того самого, что свойственно законной скуке, можно испытать почти неземное блаженство. Перед глазами встает пейзаж, на котором гордо расхаживают пестрые павлины, а на лицах людей начинает проступать душа, и — глянь-ка! — подобным же образом распускается и твоя собственная душа, и ты восторженно называешь по имени то, чего тебе всегда недоставало: Великая Страсть. О если бы эта страсть засияла кометой, снизошла на тебя, на других людей, на весь мир наконец — эх, скуке пришел бы конец, и все, что есть, стало бы…
Но люди остаются лишь отдаленными подобиями самих себя, а великая страсть гаснет на горизонте. И пребывая в скуке, которая все никак не проходит, продолжаешь вынашивать в голове всякие пустяки — такие же скучные, как и этот.
1924
Перевод: Александр Филиппов-Чехов