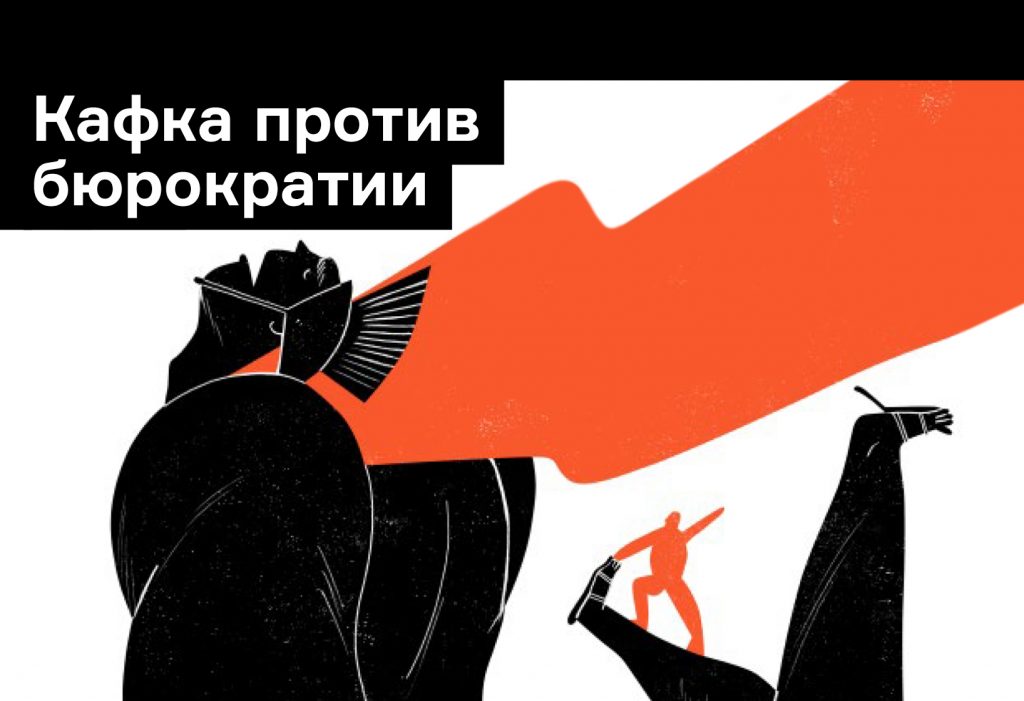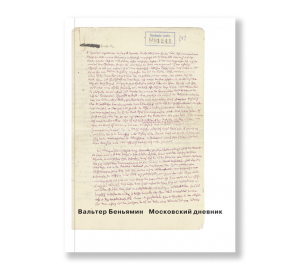Коммунизм — это общество, в котором каждый человек — свободный художник

С любезного согласия Ники Дубровской публикуем статью «Арт-коммунизм и искусственный дефицит», написанную в соавторстве с Дэвидом Гребером и посвященную 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Ранее текст был опубликован в 112-м выпуске Художественного журнала в переводе Анны Ликальтер. Другая версия настоящего текста выходила на английском языке в e-flux journal #102 и #104.

Ника Дубровская

Мир искусства и искусственный дефицит
В этом тексте мы хотели бы поделиться предварительными соображениями о том, как мир искусства одновременно дарит нам мечту об освобождении и выстраивает механизм исключения; как он руководствуется принципом, что каждый человек — художник, но в то же время настаивает на том, что это абсолютно неосуществимо.
В этом мир искусства по-прежнему следует принципам романтизма, от которых никогда, в сущности, не отказывался. Романтическая традиция несет в себе два противоречащих друг другу представления. Одно из них (своего рода демократическое) предполагает, что творческое начало присутствует в каждом человеке, даже если оно проявляется исключительно в коллективном творчестве. Другое же исходит из того, что все подлинно значимое создано гениями-одиночками. Мир искусства, по сути, соблазняет нас первым, чтобы в итоге настоять на втором…
Почти весь первый день мы провели в Арсенале, где проходила аккредитация прессы, для которой существовали разные уровни и степени допуска. Приходилось преодолевать сложный лабиринт, состоящий из кодов, баркодов и разноцветных удостоверений. Десятки хорошо одетых людей послушно стояли в очередях, переговаривались на дюжине языков, переходили из зала в зал и восстанавливали силы в специально оборудованных кафе, где обсуждали стратегию проникновения на званые ужины — по приглашениям или с помощью заимствованных пропусков, или же оценивали котировки вечеринок и презентаций.
Больше всего нас поразило катастрофическое отсутствие чувства юмора! Люди были взволнованы, терпеливы, самоуверенны, целеустремленны, но никто не выглядел насмешливым. Какая серьезность! Казалось, что всем участникам непременно нужно было показать, что все происходящее — чрезвычайно важно. Но почему? Да и не было никакой очевидной причины создавать все это множество уровней допуска.
Однако если предположить, что исключение само по себе является истиной целью происходящего, то все вставало на свои места. Ибо каждый играл в игру, правила которой были изменчивы и непрозрачны, и при условии, что все участники, от самого высокомерного олигарха или самого успешного брокера хотя бы раз оказались в проигрыше и были унижены. Или, по меньшей мере, хотя бы раз остались озадаченными и раздосадованными.
Попытки найти всему этому объяснение подводят нас к неоспоримому факту — основой мира искусства, при всей значимости его музеев, фондов, университетских кафедр и прочих некоммерческих институций, попрежнему является художественный рынок, которым, в свою очередь, управляет финансовый капитал. Будучи наименее регулируемым рынком в мире, рынок искусства комфортно расположился посреди налоговых офшоров, финансовых мошенничеств, отмывания денег и политических афер и представляет собой своего рода экспериментальную площадку для продвижения очень специального идеала свободы, адекватного нынешнему состоянию финансового капитализма. Утверждение, что рынок искусства — это квинтэссенция глобальной финансовой системы, на наш взгляд, вполне оправдано. Ведь даже артистические кварталы в крупных городах, как правило, соседствуют с финансовыми районами, а художественные инвестиции следуют логике финансовых спекуляций.
Ведь если на страницах художественных журналов не обсуждаются новейшие тенденции дизайна яхт сегмента люкс, то почему произведения, фиксирующие новейшие тренды искусства, которыми владельцы яхт украшают свои гостиные, должны интересовать водителей автобусов, горничных, шахтеров, телемаркетологов и многомиллионных посетителей художественных музеев по всему миру, а также всех тех, кто причастен к зачарованному кругу любителей «мира искусства»?
На этот вопрос существует два традиционных и по сути противоречащих друг другу ответа:
1. Современное искусство — это венец масштабной и сложно устроенной пирамиды ценностей, охватывающей все формы производства смыслов и культурных высказываний в нашем обществе. Именно поэтому оно играет ключевую роль в воспроизводстве существующей системы общественных отношений. В результате водители, горничные, шахтеры, телемаркетологи вместе с миллионами посетителей музеев продолжают верить в то, что ценность их собственных жизненных и эстетических практик незначительна.
2. Несмотря на то, что мир искусства полностью подконтролен финансовому капиталу, он по-прежнему воплощает революционную мечту, потенциально способную взорвать существующую систему, что почти невозможно представить себе в любом другом контексте.
Очевидно, что оба эти ответа верны. Точнее иначе: в некотором смысле именно революционный потенциал искусства — это и есть то, что делает его эффективным механизмом контроля. Даже дети бедняков и беженцев, в конце концов, идут в школу, где их знакомят с полотнами Леонардо да Винчи и Пикассо, где им внушают, что искусство и культура — это наивысшие достижения человечества и, возможно, главное оправдание его существования на нашей планете (несмотря на тот ущерб, который мы — люди — ей нанесли). Мы учим наших детей стремлению жить так, чтобы их дети росли в комфортных условиях, а дети их детей смогли добиться высшего и главного права человека — права на творческую свободу и самовыражение. Говоря иначе, искусство расценивается в нашем обществе как высшее проявление творчества, а творчество — как высшая ценность и реализация подлинной человеческой свободы.
А потому те, кто выбирает прикладную или коммерческую стезю, осознают, что где-то существует идеальный мир, стоящий выше социальных иерархий и форм или же напоминающий древнюю ангелическую иерархию — мир этот и есть мир искусства. Более того, даже те, кто и не подозревает о существовании мира искусства или относится к нему враждебно, даже они не могут избежать его воздействия, ибо включены в общественную систему, смыслы и образы которой производятся с помощью механизмов, запускаемых и контролируемых при участии адептов мира искусства.
Насколько глубоко это лежащее в основе мира искусства противоречие — между его системоутверждающей и подрывной функциями — легко увидеть, проанализировав многочисленные попытки его преодоления. Так, регулярно появляются партисипаторные программы и проекты, планирующие разрушить границы между искусством и обществом, между высокими и низкими жанрами, между художником и не художниками. Подчас такие проекты становятся популярными, но, в конце концов, выполнив декоративную роль, исчезают, не оказав существенного влияния на общественную ситуацию.
Между тем любой рынок по определению вынужден работать по принципу дефицита. И рынок современного искусства, и издательская деятельность, и музыкальная индустрия сталкиваются со схожими проблемами: материалы и дистрибуция художественных проектов или недорогая, или совсем бесплатная. Талантливых участников великое множество; поэтому для получения прибыли и функционирования рынка просто необходимо организовать дефицит.
За создание искусственного дефицита отвечает целая армия критиков и кураторов, галеристов и функционеров мира искусства. Как ни странно, многие из них, особенно на Западе, являются убежденными критиками капитализма. Но именно стоящая перед ними задача искусственного отбора объясняет, почему граница любых, даже самых радикальных представлений художественной элиты, пролегает там, где начинаются разговоры о возможности (и праве) каждого человека быть художником.
Под их неусыпным оком мир современного искусства оказывается заселен героическими одиночками. Даже тогда, когда художественной задачей является коллективное и групповое творчество или уничтожение самой границы, между искусством и жизнью ничего не меняется.
Закономерно, что исторически идея «каждый человек — художник» получала широкую поддержку исключительно в моменты социальных революций. Именно тогда, когда люди верили, что капитализм агонизирует, а вместе с ним подходит к концу и само существование рынков. Неудивительно поэтому, что именно в России, где, начиная с революции 1905 года вплоть до авангарда 1920-х годов, мы наблюдаем бурные обсуждения не только того, каким мог бы быть арт-коммунизм, но и о праве каждого человека на творческое самовыражение и свободу, как на, возможно, базовую коммунистическую идею.
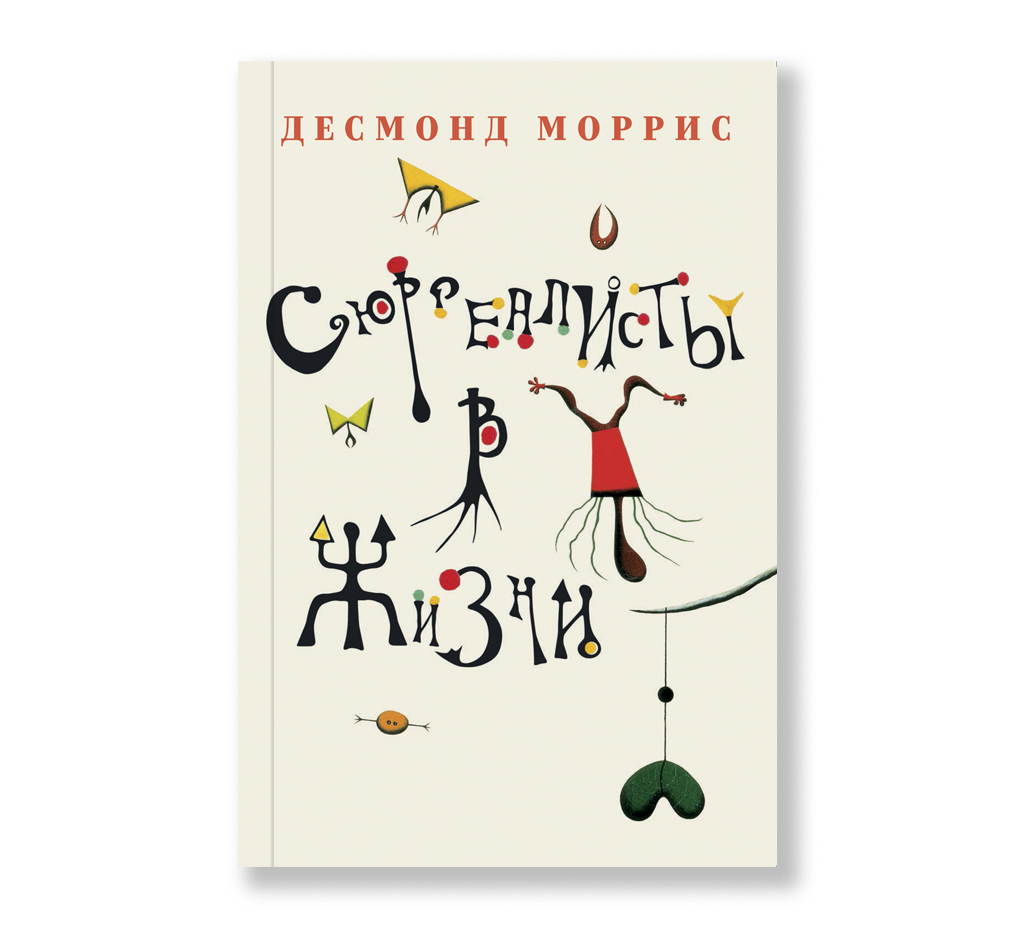
Арт-коммунизм
Коммуна делает творческую свободу достоянием всех…
В Коммуне все творцы, и не в мечтах, а в жизни.
Осип Брик
Казимир Малевич в статье 1920 года в «К вопросу изобразительного искусства» утверждает: «Мы идем к тому миру, в котором все будут творить… Мы должны поставить путь к творчеству так, чтобы вся масса участвовала в развитии каждой явленной творческой мысли, не превращаться в машинное производство как штампование». Он настаивает на том, что новое, революционное искусство основано на творчестве как «сути человека» … «как цели жизни и самосовершенство самого себя». Для Малевича — и в этом он был не одинок — художники были призваны стать не только пророками этого нового мира, они должны были стать его основой, его прообразом.
Принято считать, что русский авангард был раздавлен сталинизмом. Однако Цветан Тодоров и Борис Гройс показывают, что реальная ситуация была неоднозначной. Основная причина, по которой художников-авангардистов пришлось приструнить или даже уничтожить, состояла в том, что политический авангард сумел довести до логического предела идею исключительного статуса художника-творца, при которой сам Сталин — как и Муссолини и Гитлер — превратились в героических гениев, перестраивающих саму жизнь в соответствии с единым художественным проектом.
В своем тексте «Творческий авангард и тоталитарные диктатуры» Тодоров утверждал, что по крайне мере в ХХ веке постоянно повторяется одна и та же история: сначала художники требуют не только прав на признание новых эстетических критериев для собственных произведений, не только демократизации механизмов воспроизводства культуры, но и радикальной трансформации социальной реальности. Однако художники обречены проиграть, ибо для реализации своих планов им приходится рассчитывать на политиков, которые ни при каких обстоятельствах не будут делиться с ними властью. Поэтому после непродолжительной оттепели наступает недружелюбная зима, в течение которой политики, вдохновленные открывшейся им под воздействием авангардистских идей перспективой самовыражения, принимаются за создание масштабных социальных проектов, используя в качестве строительного материала тела и жизни собственных сограждан.
Представление, что подобная эволюция есть нечто закономерное, разделяется многими. Они считают, что как только чье-то эстетическое видение переносится в общественную сферу, то это неизбежно заканчивается катастрофой. Идущие еще дальше консерваторы внушают, что фигуры, подобные Малевичу, в своей наивности крайне опасны.
Но каковы же на самом деле были представления Малевича о подлинном коммунизме? Для него это было не просто общество будущего, в котором каждый будет свободен от борьбы за существование (что в то время соответствовало всеобщим ожиданиям), но также и общество, в котором «стремление к счастью» проявит себя, прежде всего, в художественном или научном творчестве.
Разумеется, это предполагало, что люди обладают одновременно способностями и предрасположенностью к творчеству, даже если речь идет о попытках создать вечный двигатель или о репетициях комедийных сценок. Видение Малевича подразумевало, что любопытство и потребность в самовыражении являются неотъемлемыми составляющими того, что мы определяем как «человечество» — или, возможно, всей жизни, и поэтому свобода — это, скорее, вопрос устранения препятствий, нежели фундаментальной перестройки человеческой природы. Поэтому, с одной стороны, Малевич говорил, что основой нового художественного мира должна стать экономика, но с другой, его главный интерес состоял в создании нового универсального эстетического языка.
Сам же Малевич происходил из национальной окраины — он был поляком, выросшим в украинской деревне, и так и не овладел литературным русским языком и не получил «правильного» художественного образования. Его квадраты и треугольники — гениальный способ преодоления маргинальности, успешный взлом властного дискурса. Аналогичным образом русский авангардный проект был, прежде всего, проектом образовательным, направленным не на создание «нового человека» (как позже писали сталинисты), а на включение исключенных — бедняков и провинциалов, пролетариев и крестьян — в общий коммунистический мир искусства.

Идея состояла в том, чтобы создать и расширить (сделать доступными для всех) инструменты, необходимые для участия в коллективном проекте — создание нового коммунистического общества, в котором у всех оказались бы равные права и возможности.
Будетляне (люди будущего), по замыслу русских авангардистов, должны были освободиться не только от несправедливых социальных условий прошлого, главное, они должны были вернуть себе творческую свободу, которой при рождении наделен каждый человек.
Не нужно думать, что русский авангард был настолько наивен, чтобы представлять себе коммунизм страной инфантильного детства, где нет ни смерти, ни неразделенной любви, ни предательства, ни страха. Скорее, будетляне должны были оказаться в мире, где больше нет разделения на великих творцов и послушных зрителей.
Иначе говоря, коммунизм — это общество, в котором каждый человек — свободный художник.
Перевод: Анна Ликальтер