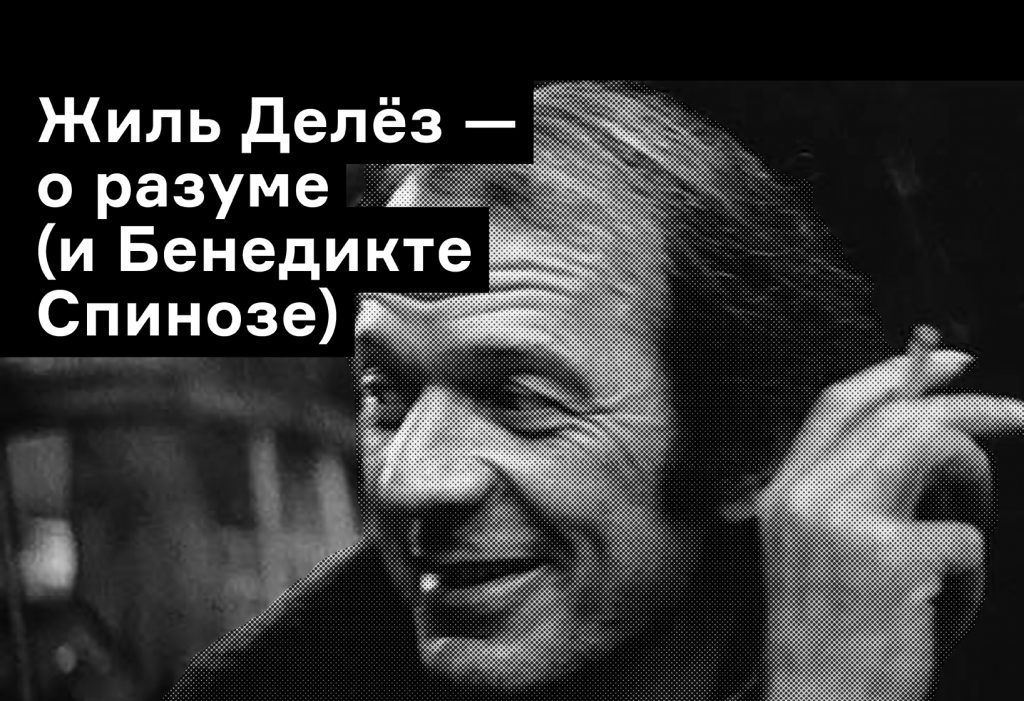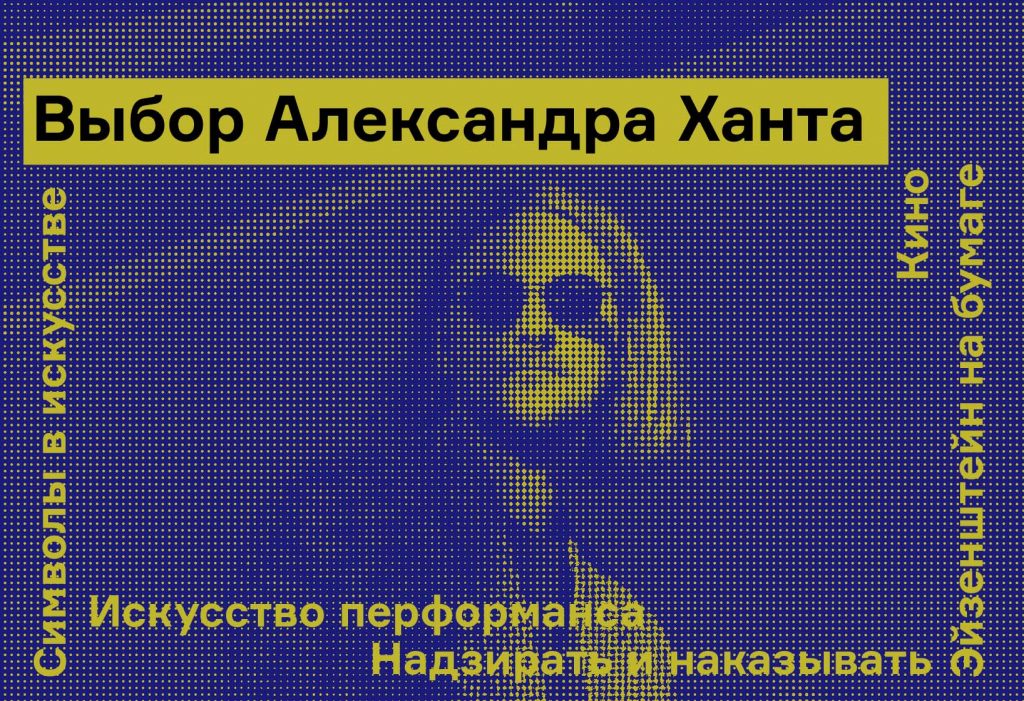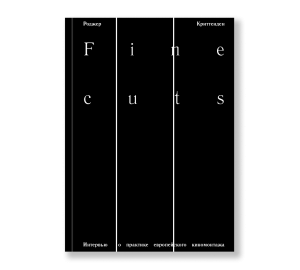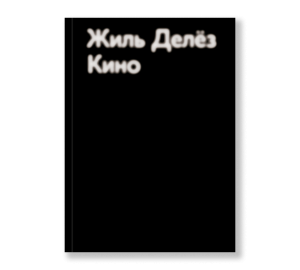«Кристаллы времени» — отрывок из работы Жиля Делёза «Кино»

В рамках рубрики Кинотеатр Ad Marginem публикуем отрывок из работы Жиля Делёза Кино и список фильмов, которые помогут погрузиться в атмосферу изложения.
Примечание к публикации:
Должно быть, Жиль Делёз был на редкость увлекающейся натурой. Едва ли не каждый предмет его многочисленных «внефилософских» интересов (о которых, правда, мы судим в итоге по философским книгам) поначалу кажется неожиданным — будь то теория множеств, тонкости классической музыкальной формы, живопись Фрэнсиса Бэкона, различия между аналоговым и цифровым преобразованиями звука… Да и кино — ведь Делёз не был завсегдатаем парижской Синематеки, не входил в круг Cahiers du cinéma, не выступал в роли кинокритика, да и вообще почти не писал о фильмах вплоть до начала 1980-х, хотя предыдущие два десятилетия, когда он создал свои основные работы и приобрел известность, быстро вышедшую за пределы университетских кругов, были временем расцвета французского кинематографа и окружившего его синефильского культа.
Две книги Делёза о кино — Образ-движение (1983) и Образ-время (1985), в русском переводе выпущенные под одной обложкой, — особенно ярко свидетельствуют о его способности увлекаться и в какой-то мере передают ее читателю. Среди изобилия литературы на эту тему они — при всей сложности изложенных в них философских выкладок — являются редким примером серьезного текста о кино, вызывающего острое желание посмотреть (или пересмотреть) фильмы, о которых в нем идет речь.
По крайней мере одна из причин лежит на поверхности: практически любой из несметного множества фильмов, попавших в поле зрения Делёза, он читает по-своему — так, что ни один режиссер, вероятно, с ним бы не согласился, хотя имел бы все основания быть польщенным. Любопытная деталь: Делёз оценивает высоко все фильмы, о которых пишет, и не скупится на эпитеты «прекрасный» или даже «великий».
Всё дело в том, что кинематограф для него — не искусство в традиционном понимании, нацеленное на достижение идеала, и не поле соперничества между «мастерами», а, скорее, модернистский медиум, более или менее целенаправленно движущийся к раскрытию своей сущности.
В дело этого раскрытия каждый автор вносит посильную — и по-своему ценную — лепту. Образ истории кино, возникающий при чтении книги Делёза, можно сравнить с гигантской стройкой: каждый элемент растущего здания — фильм — приобретает в этом здании функцию, отличную от тех задач, которым подчинял его создатель, и вообще, как кажется, непредсказуемую исходя из его видимых особенностей. Подобное здание не похоже на кинотеатр, где фильм, демонстрируемый в темноте, вовлекает зрителя в свой собственный мир, на время «приостанавливая» жизнь за его пределами. На что же оно похоже? Скорее, на некий мультиплекс, в котором все фильмы без конца переглядываются и переговариваются. На другие модернистские переработки истории: на Дух форм Эли Фора, где все произведения мирового искусства встречаются в едином синхронном пространстве; на Воображаемый музей Мальро, экспозиция которого — благодаря возможностям репродукции — непрерывно меняется, образуя всё новые констелляции; на Атлас Аби Варбурга, в котором самые разнородные образы высвечивают друг в друге всё новые грани; на Историю/истории кино Годара — возникший не без влияния Делёза и всех перечисленных выше авторов кинопалимпсест. И, наконец, на собственный концепт Делёза — образ-кристалл, в котором непрерывно обмениваются, умножая грани-зеркала, актуальное и виртуальное.
Этому концепту посвящен один из самых захватывающих фрагментов книги Кино — своеобразный шарнир двухтомника, в котором переход от образа-движения к образу-времени обосновывается на примере нескольких фильмов, встречу которых в других условиях было бы трудно себе представить. Этот фрагмент в слегка обновленной по случаю кинонедели редакции мы публикуем ниже; посмотрев (или пересмотрев) фильмы, не столько обсуждаемые, сколько переоткрываемые в нем Делёзом, вы наверняка обнаружите в них немало такого, о чем не подозревали.
Фильмы к отрывку:
Структура кристалла
Польша, 1969
Режиссер Кшиштоф Занусси
Черный дрозд
США, 1926
Режиссер Тод Браунинг
Леди из Шанхая
США, 1947
Режиссер Орсон Уэллс
И корабль плывет…
Италия, 1983
Режиссер Федерико Феллини
Зеленая комната
Франция, 1978
Режиссер Франсуа Трюффо
Стеклянное сердце
ФРГ, 1976
Режиссер Вернер Херцог
Зеркало
СССР, 1974
Режиссер Андрей Тарковский
Положение вещей
ФРГ, Португалия, США, 1982
Режиссер Вим Вендерс
Деньги
Франция, 1928
Режиссер Марсель Л’Эрбье
Кристаллы времени
Кино не только предъявляет образы, но и окружает их некоторым миром. Вот почему оно так рано обратилось к поискам всё расширяющихся кругов, соединяющих актуальный образ с образами-воспоминаниями, образами-грезами и образами-мирами. Не это ли расширение поставил под сомнение Годар в фильме Спасай, кто может (свою жизнь), сделав своим предметом виде́ния умирающих («Я еще не умер, ведь моя жизнь еще не проплыла у меня перед глазами»)? Не следовало ли идти в противоположном направлении? Сужать образ, а не расширять его. Искать самый малый круг, функционирующий как внутренний предел всех остальных и смыкающий с актуальным образом его, скажем так, удвоение — прямое, симметричное, последовательное или даже одновременное. Более широкие круги воспоминания или грезы предполагают это узкое основание, это острие, — а не наоборот. Такая тенденция проявляется уже в связях, показываемых через флэшбэк: у Манкевича персонаж, который ведет рассказ «в прошлом», смыкается с тем же самым персонажем, внезапно замечающим что-то и начинающим рассказ уже об этом; у Карне в фильме День начинается все круги воспоминаний, каждый раз приводящих нас в одну и ту же комнату отеля, покоятся на малом круге воспоминания о недавнем убийстве, случившемся как раз в этой комнате. Если довести эту тенденцию до крайности, то можно сказать, что актуальный образ сам обладает виртуальным образом, который соответствует ему как двойник или отражение. Говоря языком Бергсона, реальный объект отражается в зеркальном образе, словно в виртуальном объекте, который со своей стороны и в то же самое время обволакивает или отражает реальное: между двумя объектами имеет место «сращение». Так возникает двуликий образ: актуальный и виртуальный, — как если бы образ в зеркале, фотография или открытка ожили, обрели самостоятельность и перешли в актуальное, а актуальный образ вернулся в зеркало, занял свое место на открытке или фотографии в двойном движении освобождения и захвата.
Тут узнается особого рода описание, отнюдь не направленное на некий, как предполагается, отчетливый объект, а непрерывно всасывающее и вместе с тем создающее свой собственный объект — в соответствии с задачей, поставленной Роб-Грийе. Круги могут множиться, всё расширяясь в ответ всё более глубоким слоям реальности и всё более высоким уровням памяти или мысли, но основой этой системы и ее внутренним пределом служит самый сжатый круг актуального образа и его виртуального образа. Мы видели, как на более длинных дистанциях перцепция и воспоминание, реальное и воображаемое, физическое и ментальное — или, скорее, их образы — непрестанно друг друга преследуют, бегут друг за другом и отсылают друг к другу в окрестностях точки неразличимости. Но эту точку неразличимости образует не что иное, как наименьший круг, то есть сращение актуального и виртуального образов, — двуликий образ, актуальный и виртуальный одновременно. Мы называли опсигнумом (и сонсигнумом) актуальный образ, оторванный от своего моторного продления: он состоял из больших кругов и сообщался с тем, что могло выглядеть как образы-воспоминания, образы-грезы, образы-миры. Но теперь, когда актуальный оптический образ кристаллически соединяется со своим собственным виртуальным образом на малом внутреннем круге, опсигнум находит свой истинный генетический праэлемент. Это образ-кристалл — основание или, скорее, «сердцевина» опсигнумов и их сочетаний, которые оказываются не более чем его отблесками.
Образ-кристалл, или кристаллическое описание, действительно обладает двумя не сливающимися одна с другой гранями. Слияние реального и воображаемого — это попросту фактическая ошибка, не затрагивающая различимости того и другого: оно происходит у кого-либо «в голове». Напротив, неразличимость представляет собой объективную иллюзию; она не устраняет различия между двумя гранями, но делает его нефиксируемым, поскольку каждая грань берет на себя роль другой в рамках отношения, которое следует квалифицировать как отношение взаимного допущения или обратимости. В самом деле, всякое виртуальное становится актуальным по отношению к актуальному, которое в рамках того же самого отношения становится виртуальным: изнанка и лицо полностью обратимы. Это, по выражению Башляра, «взаимные образы», между которыми идет обмен. Неразличимость реального и воображаемого, настоящего и прошлого, актуального и виртуального является, следовательно, вовсе не «головным» или духовным продуктом, а объективным свойством некоторых существующих образов, двойных по своей природе. И тут возникает два рода проблем: проблемы структуры и проблемы генезиса. Во-первых, какие консолидации актуального и виртуального определяют кристаллическую структуру (скорее в общеэстетическом, нежели в научном смысле)? И, во-вторых, какая генетическая операция проявляется в этих структурах?
Наиболее известный случай здесь — зеркало. Кривые зеркала, вогнутые и выпуклые зеркала, венецианские зеркала неразрывно связаны с кругом: это очевидно во всем творчестве Офюльса и у Лоузи, особенно в Еве и Слуге. Этот круг сам по себе есть обмен: образ в зеркале виртуален по отношению к актуальному персонажу, захваченному зеркалом, однако тот же образ актуален в зеркале, которое оставляет персонажу лишь виртуальность, изгоняя его за кадр. Обмен тем активнее оттого, что круг отсылает к многоугольнику со всё возрастающим числом сторон: актер является нам в виде бесчисленного множества своих близнецов, словно лицо, отражающееся в гранях камня на перстне. Совокупность множащихся виртуальных образов всасывает в себя всю актуальность персонажа, тем временем как персонаж становится лишь одной из множества виртуальностей. Предугаданная в фильме Уэллса Гражданин Кейн (когда Кейн проходит между двумя зеркалами, обращенными друг к другу), в его же фильме Леди из Шанхая — в знаменитом ледяном дворце — эта ситуация открывается в чистом виде. Здесь принцип неразличимости достигает пика, являя совершенный образ-кристалл: размножившиеся зеркала вбирают в себя актуальность двух персонажей, которые смогут вернуть ее себе, лишь разбив все зеркала, сойдясь друг с другом лицом к лицу и друг друга убив.
Итак, актуальный образ и его виртуальный образ составляют наименьший внутренний круг, в пределе — острие или точку, но точку физическую, в которой имеются отдельные элементы (она немного напоминает эпикуровский атом). Отдельные, но неразличимые — таковы актуальное и виртуальное в непрерывном процессе обмена. Когда виртуальный образ становится актуальным, он видим и ясен, как в зеркале или в сформировавшемся твердом кристалле. Но актуальный образ в свою очередь становится виртуальным, отстраненным, невидимым, тусклым и непрозрачным, словно кристалл, едва извлеченный из-под земли. Пара «актуальное — виртуальное» сразу получает продолжение в виде пары «ясное — тусклое», служащей выражением обмена между актуальным и виртуальным. Достаточно лишь изменения условий (например, температурных), чтобы ясная грань помутнела, а тусклая — приобрела или вернула себе ясность. Обмен продолжается снова и снова. Будучи отдельными, две грани тем не менее неразличимы, пока условия остаются непостоянными. Эта ситуация, как кажется, подводит нас к области науки. Не случайно мы обнаруживаем ее у Занусси, когда он обращается к научным темам в своем кино. Однако Занусси интересует не наука как таковая, а ее «власть», ее отношения с жизнью и, главное, ее проекция в жизнь самих ученых. В фильме Структура кристалла показаны двое ученых, один из которых блистает, притягивает к себе свет официальной, чистой науки, тогда как другой погружен в свою тусклую жизнь, полную незаметных дел. Но, стоит сменить точку зрения, как светом озаряется именно то лицо, что погружено в тень, пусть свет этот — уже не научный, а более близкий к вере, к «озарению» в августиновском смысле слова, — тогда как представители чистой науки оказываются на удивление темноликими и служащими непризнанной воле к власти (Защитные цвета, Императив). Занусси принадлежит к числу авторов (первым из них был Дрейер), способных насытить диалоги религиозным, метафизическим или научным содержанием, сохранив их самую что ни на есть будничную и тривиальную обусловленность. Эта способность основана как раз на принципе неразличимости. Что излучает свет: ясная научная схема мозга в разрезе или темный череп молящегося монаха (Иллюминация)? Между двумя отдельными гранями всегда будет вкрадываться сомнение, мешающее решить в конкретных условиях, какая из них — ясная, а какая — тусклая. В фильме Константа двое главных героев «застывают посреди поединка, замерзшие и забрызганные грязью, тем временем как встает солнце». Дело в том, что условия — по образцу климатических, которым неизменно уделяет внимание Занусси, — отсылают к среде. Кристалл здесь соотносится уже не с внешним положением двух зеркал «лицом к лицу», а с внутренней предрасположенностью зародыша по отношению к среде. Каким будет зародыш, способный дать всходы в этой среде, на пустынной заснеженной территории, которая расстилается перед нами в фильмах Занусси? Или, вопреки усилиям людей, среда так и останется аморфной, кристалл лишится своей внутренности, а зародыш окажется лишь зародышем смерти — смертельной болезни или самоубийства (Спираль)? Итак, обмен и неразличимость осуществляются в кристаллическом круге тремя способами: между актуальным и виртуальным (два зеркала, обращенные друг к другу); между ясным и тусклым; между зародышем и средой. К этим трем аспектам принципа неопределенности Занусси пытается привести кино.
Занусси сделал актером — существом, по преимуществу драматическим, — ученого. Но ситуация актера как такового аналогична: кристалл — это сцена или, вернее, круговой обход, и только затем научная аудитория. Актер сомкнут со своей публичной ролью: он делает актуальным виртуальный образ роли, которая становится видимой и излучающей свет. Актер — это «монстр», или, точнее, монстры — сиамские близнецы, человек без рук и ног — прирожденные актеры, так как в своем пороке, будь он чрезмерностью или увечьем, они находят роль для себя. Но чем более актуальным и ясным становится виртуальный образ роли, тем более тусклым, погруженным в тень оказывается актуальный образ актера: он осуществляет свои частные замыслы, вершит тайную месть или самосуд, вынашивает мрачные преступные планы. Эта подпольная активность обнаруживается и в свою очередь становится видимой тогда, когда исполнение роли прерывается и она вновь уходит в тень. Тут узнается основная тема творчества Тода Браунинга, к которой он обратился еще в немом кино. Мнимый калека переходит в свою роль и отрубает себе руки из любви к женщине, которая не выносит рук мужчин, а затем, в попытке вновь обрести себя, решает организовать убийство соперника, не имеющего увечий (Неизвестный). В фильме Несвятая троица чревовещатель Эхо теряет способность говорить иначе, нежели при посредстве марионетки, но затем вновь обретает себя, совершая преступление, для которого переодевается пожилой дамой (после чего ему приходится сознаться в содеянном устами несправедливо обвиненного). Монстров из фильма Уродцы делает монстрами только то, что их заставили перейти в свои роли, но и они путем мрачной мести обретают себя, преисполняясь странного света под ударами молний, которые прерывают их игру. В фильме Дрозд «актера», решившего воспользоваться своей ролью епископа с преступной целью, прямо в процессе превращения разбивает паралич: монструозный обмен внезапно застывает. Ненормальная, удушающая медлительность пронизывает всех персонажей Браунинга в их кристалле. В его фильмах проявляется вовсе не рефлексия о театре или цирке, подобная той, какую можно встретить у других режиссеров, а двуличие актера, уловить которое под силу лишь кинематографу с его собственным круговоротом. Виртуальный образ публичной роли становится актуальным по отношению к виртуальному образу частного преступления, который в свою очередь тоже становится актуальным и занимает место предыдущего. Теперь уже непонятно, где роль, а где — преступление. Должно быть, тут потребовалось исключительное взаимопонимание между автором и актером — между Браунингом и Лоном Чейни. Кристальный круг актера с его прозрачной и темной гранями — это травести. Браунинг достиг поэзии нефиксируемого, и его вдохновение в известной степени унаследовали два великих травестийных фильма — Убийство Хичкока и Месть актера Итикавы с его великолепными черными фонами.
В этот разнородный перечень тем следует добавить корабль. Ведь корабль — это тоже круг, круговой обход. В каком-то смысле, как в картинах Тёрнера, раскол надвое для корабля — не следствие катастрофы, а свойство. Эту структуру прочно зафиксировал в своих романах Герман Мелвилл. Зародыш, оплодотворяющий море, корабль обретается между двумя своими кристаллическими гранями: ясной, каковая есть его верхняя часть, где все должно быть на виду и пребывать в порядке, и тусклой, каковая есть его нижняя, подводная часть, населенная темноликими кочегарами. Можно сказать, что ясная грань актуализирует своего рода театр или драматургию, вовлекающую в себя пассажиров, тогда как виртуальное остается на тусклой грани и в свою очередь актуализируется в разборках машинистов, в дьявольской извращенности боцмана, в мономании капитана, в мести, тайком подготовленной неграми-бунтарями. Таков круг двух виртуальных образов, которые непрерывно становятся актуальными по отношению друг к другу и непрерывно друг друга активизируют. Однако кинематографическую версию корабля преподносит не столько фильм Хьюстона Моби Дик, сколько Леди из Шанхая Уэллса, у которого мы находим больше всего фигур образа-кристалла. Видимую и невидимую грани обнаруживает яхта «Цирцея»: ясная грань, которой на время доверяется наивный герой, неуклонно размывается и теряет четкость, тем временем как безмолвно зреет и набирает стать другая, тусклая грань — огромная темная сцена аквариума, населенного монстрами. По-другому — как последний круг судьбы, открывающийся за круговым обходом цирка, — понимает корабль Феллини. Уже океанский лайнер из Амаркорда выглядит, словно гигантский зародыш смерти — или жизни на пластиковом море. А в фильме И корабль плывет… грани корабля множатся, словно стороны разрастающегося многоугольника. Сначала он раскалывается на верх и низ: весь его видимый порядок, включая команду, повинуется грандиозному драматическому действу пассажиров-певцов, но когда пассажиры сверху приходят посмотреть на пролетариев, находящихся внизу, эти пролетарии сами становятся зрителями и слушателями конкурса пения, в который они вовлекают «верхних», а также музыкального состязания в кухнях. Затем раскол меняет ориентацию: теперь он разделяет пассажиров-певцов на капитанском мостике и бедняков, потерпевших бедствие, на палубе: обмен вновь идет между актуальным и виртуальным, прозрачным и тусклым, образуя музыкальную структуру в духе Бартока. Наконец, раскол становится практически полным раздвоением, когда появляется еще один корабль — отправленное за беженцами мрачное, наглухо закрытое со всех сторон, устрашающее военное судно, которое все явственнее актуализируется по мере того, как погребальная драма первого, светлого, корабля завершается ослепительной круговертью всё более стремительно сменяющихся образов: оба корабля взрываются и начинают тонуть, отдавая морю, этой вечно аморфной среде, то, что ей причитается, — меланхоличного носорога под стать Моби Дику. Взаимный образ, круговорот корабля-кристалла на фоне живописно-музыкального конца света. Один из последних жестов в фильме совершает юная террористка-маньячка, которая не может удержаться о того, чтобы добить темный корабль, бросив бомбу в одну из его бойниц.
Местом обмена может быть и корабль мертвых — неф обычной часовни. Если виртуальное выживание мертвых может актуализироваться, то не происходит ли это за счет нашего существования, в свою очередь становящегося виртуальным? Мертвые принадлежат нам или мы — мертвым? И как мы их любим — в пику живым или ради жизни и вместе с нею? Прекрасный фильм Трюффо Зеленая комната преподносит нам четыре грани, образующие удивительный зеленый кристалл, изумруд. После того как герой уединяется в комнатушке с окнами из мутного зеленого стекла, которое окрашивает свет, его существование тоже приобретает унылую окраску и становится нефиксируемым: невозможно сказать, среди живых он живет или среди мертвых. Затем в кристалле часовни мы видим тысячи свечей — целый огненный куст, которому всегда недостает одной ветви, чтобы составить «совершенную фигуру». Последней свечи — того или той, кто смог зажечь лишь предпоследнюю, — так и будет недоставать в нередуцируемом упорстве жизни, делающей кристалл бесконечным.
Кристалл — это выражение. Выражение движется от зеркала к зародышу. Один и тот же круг проходит через три фигуры: виртуальное и актуальное, ясное и тусклое, зародыш и среда. В самом деле, с одной стороны, зародыш представляет собой виртуальный образ, который вызывает кристаллизацию актуально аморфной среды; но, с другой стороны, эта среда должна обладать виртуально кристаллизуемой структурой, по отношению к которой зародыш выступает в роли актуального образа. Опять-таки, актуальное и виртуальное обмениваются между собой в неразличимости, всегда допускающей сохранение отдельности. В знаменитом эпизоде Гражданина Кейна стеклянный шар разбивается, выпадая из рук умирающего, но находившийся в нем снег как бы летит к нам на крыльях бури, чтобы оплодотворить открываемые нами среды. Мы не знаем заранее, суждено ли виртуальному зародышу («Rosebud») актуализироваться, потому что не знаем, имеется ли у актуальной среды соответствующая ей виртуальность. Возможно, именно так нужно понимать великолепные образы Стеклянного сердца Херцога и двойственный характер этого фильма. Поиски алхимического сердца, алхимической тайны — красного кристалла — неотделимы от поисков границ космоса: высочайшее напряжение духа неотделимо от наиболее глубокой ступени реальности. Но огонь кристалла должен перекинуться на всю мануфактуру для того, чтобы и мир, со своей стороны, перестал быть сплющенной аморфной средой, останавливающейся на краю бездны, и обнаружил в себе бесконечные потенции кристалла («Земля явилась из вод, я вижу новую землю…»). Херцог воздвиг в этом фильме величайшие в истории кино образы-кристаллы. Схожие попытки из фильма в фильм предпринимает Тарковский, всякий раз, правда, закрывая открытую было дверь: Зеркало представляет собой вращающийся кристалл — двугранный, если соотносить его с невидимым взрослым персонажем (его мать, его жена), и четырехгранный, если соотносить его с двумя видимыми парами (его мать и ребенок, которым был он сам; его жена и ребенок, который рожден им). Этот кристалл вращается вокруг своей оси, словно зонд, вопрошающий тусклую среду: что же такое Россия, что такое Россия?.. Зародыш, словно скованный в намокших, размытых, едва просвечивающих образах, показывается то голубоватыми, то коричневатыми гранями, тогда как зеленая дождливая среда, кажется, не может преодолеть состояние жидкого кристалла, таящего свой секрет. Быть может, мягкая планета из фильма Солярис даст ответ, примирит океан с мыслью, среду с зародышем, обозначив и прозрачную грань кристалла (обретенная жена), и кристаллизуемую форму вселенной (обретенное жилище)? Солярис не внушает подобного оптимизма, и в Сталкере среда возвращается в тусклое состояние неопределенной зоны, а зародыш — к немощи выкидыша, закрытой двери. Размывки Тарковского (женщина, моющая волосы у влажной стены, в Зеркале), ритмизующие каждый его фильм дожди — такие же сильные, как у Антониони или Куросавы, но выполняющие иные функции, — вновь и вновь возвращают к вопросу: какому горящему кусту, какому огню, какой душе, какой губке под силу осушить эту землю? Серж Даней заметил, что вслед за Довженко некоторые советские режиссеры (или восточноевропейские, например Занусси) сохраняют склонность к тяжелой материи, к массивным натюрмортам, которые, напротив, исчезли из западного кино под воздействием образа-движения. В образе-кристалле есть этот идущий вслепую, наугад взаимный поиск материей и духом друг друга, выход за пределы образа-движения, «которому мы еще поклоняемся».
Зародыш и зеркало появляются еще в двух вариантах: зародыш — как произведение в процессе создания, зеркало — как произведение, отражающееся в произведении. Сквозные для всех искусств, эти темы не могли не затронуть и кино. Иногда фильм отражается в театральной пьесе, в спектакле, в картине или, чаще, в фильме внутри фильма; иногда предметом фильма становится он сам в процессе создания — результативного или тщетного. В одних случаях эти темы существуют в отдельности. Зеркальные образы используются уже в «монтаже аттракционов» у Эйзенштейна; они появляются у Рене и Роб-Грийе в фильме В прошлом году в Мариенбаде — как две большие театральные сцены (а весь мариенбадский отель — чистейшей воды кристалл с прозрачной и тусклой гранями в процессе обмена). Напротив, 8 1/2 Феллини — это образ в зародыше, формирующийся, подпитываемый своими неудачами (хотя, вероятно, это не относится к большой сцене с телепатом, где вводится образ в зеркале). Положение вещей Вендерса — тоже образ в зародыше, что тем более очевидно, поскольку фильм не получается, рассыпается и может отразиться лишь в тех причинах, которые мешают его осуществлению. Бастер Китон, которого порой представляют как гения без рефлексии (без отражения), возможно, одним из первых, наряду с Вертовым, показал фильм в фильме. Один такой пример — в Шерлоке-младшем — более близок к форме зеркального образа, а другой — в Кинооператоре — к форме зародыша: в данном случае это прямое кино, снимаемое то обезьяной, то репортером и показывающее фильм в процессе создания. В других случаях две темы или два случая, наоборот — по образцу Фальшивомонетчиков Жида, — пересекаются и соединяются, становясь неразличимыми. В Страсти Годара живые картины — живописные и музыкальные — пребывают в процессе создания, но в то же время работница, жена и начальник являются зеркальными образами того, что между тем отражает их самих. У Риветта театральное представление — это зеркальный образ, но в то же время, поскольку постановка всегда срывается, это еще и зародыш того, чему не удается ни произойти, ни отразиться: отсюда столь причудливая роль репетиций Перикла в фильме Париж принадлежит нам и Андромахи в Безрассудной любви. Еще одна формула применена в Бессмертной истории Уэллса: весь этот фильм является зеркальным образом легенды, в который раз инсценируемой стариком-режиссером, но в то же время может быть истолкован и как момент зарождения этой легенды и ее возвращения морю.
В результате кризиса образа-действия кинематограф неизбежно должен был погрузиться в меланхоличные гегельянские раздумья о собственной смерти: если историй, которые он мог бы рассказать, не осталось, что ему делать, кроме как избрать своим объектом себя и рассказывать лишь собственную историю (Вендерс)? Однако темы произведения в зеркале и произведения в зародыше всегда сопровождали искусство и отнюдь не истощали его сил, так как искусство находило в них средства создания образов особого рода. И фильм в фильме тоже не свидетельствует о некоем конце Истории: не более самодостаточный, чем флэшбэк или греза, он служит лишь приемом, необходимость которого диктуется чем-то другим. В самом деле, фильм в фильме — это способ составления образа-кристалла. И если этот способ используется, он должен быть основан на неких соображениях, способных предоставить ему более высокое оправдание. Во всех искусствах, как нетрудно заметить, прием произведения внутри произведения часто соотносится с темами слежки, расследования, мести или заговора. Среди примеров — театр в театре из Гамлета и тот же роман Жида. Мы видели, как важна была тема заговора в кино периода кризиса образа-действия; ее неотвязной атмосферой пронизаны не только фильмы Риветта, но и В прошлом году в Мариенбаде. И всё же эта тема осталась бы второстепенной, если бы у кинематографа не было самых веских оснований для того, чтобы придать ей новую и совершенно особую глубину. Кино как вид искусства само напрямую связано с непрерывным международным заговором, который обусловливает его изнутри в качестве самого близкого к нему, самого неотступного его врага. Это заговор денег; индустриальное искусство определяется не механической репродукцией, а связью с деньгами, которая стала для него внутренней. Ссылки на суровые законы кино, на то, что минута фильма стоит целого дня коллективного труда, не предполагают иного ответа кроме того, который дал Феллини: «Когда кончатся деньги, кончится и фильм». Деньги — изнанка всех образов, чью лицевую сторону демонстрирует нам кино, поэтому фильмы о деньгах — это уже, пусть имплицитно, фильмы в фильме или фильмы о фильме. Именно таково истинное «положение вещей»: оно сводится не к концу кинематографа, как говорит Вендерс, а скорее, как он это показывает, к конститутивной связи между фильмом в процессе создания и деньгами как его тотальностью. В Положении вещей члены съемочной группы покидают полуразрушенный отель и возвращаются каждый в свое одиночество, словно жертвы заговора, ключ к которому неизвестен. Во второй части фильма этот ключ обнаруживается как изнанка случившегося: сбежавший продюсер скрывается в трейлере от высланных за ним убийц и в конце концов погибает вместе с режиссером, из чего явствует, что взаимный обмен между камерой и деньгами не допускает ни эквивалентности, ни равенства.
Старое проклятие подтачивает кино: деньги — это время. Если движение допускает в качестве инварианта некоторую сумму обменов, или эквивалентность, симметрию, то время по природе своей есть заговор неравного обмена, невозможность эквивалентности. Именно в этом смысле время — деньги: из двух формул Маркса Т–Д–Т — это формула эквивалентности, а Д–Т–Д′ — формула невозможной эквивалентности, или мошеннического, асимметричного обмена. Эту проблему обмена поднял Годар в фильме Страсть. А Вендерс, в ранних фильмах трактовавший камеру, как мы видели, в качестве общего эквивалента всякого поступательного движения, в Положении вещей обнаруживает невозможность уравнения «камера = время», так как время — это деньги или денежное обращение. В одной поразительной иронической лекции Л’Эрбье сказал об этом всё: поскольку пространство и время в современном мире непрерывно дорожают, искусству давно пора стать кинематографом — международным индустриальным искусством — и заняться покупкой пространства и времени как «воображаемых акций человеческого капитала». Эту тему — пусть имплицитно — Л’Эрбье развил в своем шедевре Деньги (а Брессон в одноименном фильме по мотивам Толстого показал, что, поскольку деньги принадлежат к порядку времени, они делают невозможным всякое возмещение зла, всякую расплату, всякое справедливое воздаяние, исключая то, что свершается по благодати). Короче говоря, в одном и том же акте кино сталкивается со своей глубочайшей внутренней предпосылкой, деньгами, а образ-движение уступает место образу-времени. Именно этому адскому кругу «образ — деньги», инфляции, вводимой временем в обмен, «шквальному удорожанию» служит выражением фильм в фильме. Фильм — это движение, но фильм в фильме — это деньги, то есть время. Так образ-кристалл обретает принцип, ложащийся в его основу: он должен постоянно форсировать асимметричный, неравный и не допускающий эквивалента обмен, поставлять образы взамен денег и время — взамен образов, обращать друг в друга время, прозрачную грань, и деньги, тусклую грань, — подобно тому, как вращают волчок на острие. И фильм кончится, когда кончатся деньги…
Перевод: Борис Скуратов