Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР. Послесловие к электронному изданию
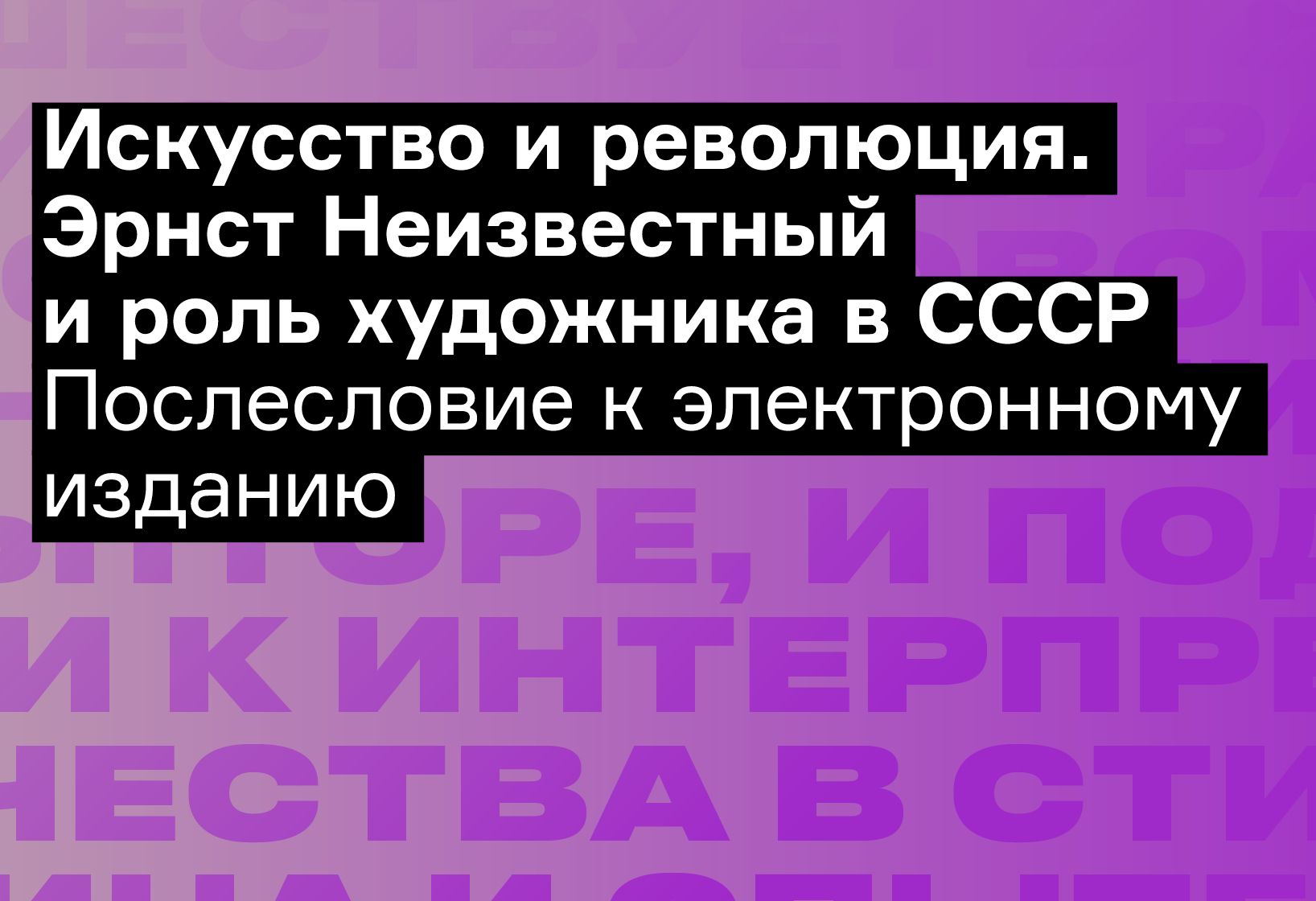
Публикуем послесловие Ярослава Алёшина — куратора, руководителя музея Вадима Сидура в 2015-2019 годах — к электронному изданию книги Джона Бёрджера Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР.
Книга Джона Бёрджера Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР рождает любопытное ощущение. Кажется, что ее издание на русском стоило бы предпринять не два года назад в рамках партнерской программы Ad Marginem и Музея «Гараж», а в 1989-м при поддержке Министерства культуры СССР и лично Николая Николаевича Губенко.
Британский интеллектуал путешествует в Советскую Россию, чтобы рассказать миру о культовом для местной интеллигенции скульпторе, и подбирает ключи к интерпретации его творчества в стихотворении Пушкина и опыте Великой Отечественной войны. Наша страна, в точном соответствии с Гройсом, который в момент создания текста о подобном, конечно, еще не думает, открывается ему как подлинное инобытие Запада. Сельские жители в разноцветных, ярких одеждах, словно на поздних картинах Малевича, стоят вдоль железных дорог. А горожане обитают в «четвертом измерении» дворов, где на расстоянии «меньше двухсот ярдов от самых оживленных перекрестков улицы Горького» спрятана особая русская жизнь. В этом непохожем на привычный автору, но очень важном для его собственного и всеобщего будущего мире живет герой его книги.
Эрнст Неизвестный, который ютится со своими творениями в крохотной мастерской, как обобщенный образ советского искусства и общества в целом, ищет выход из социального и политического тупика, то с силой и страстью «быка» проламывая бетонные потолки тоталитарного наследия, то бередя незаживающие раны, оставленные репрессиями, войной и прочими испытаниями, выпавшими на долю советского человека. Взгляд автора чуток к движению и противоречиям момента (он не раз оговаривается, что имеет к художнику немало замечаний), но, раскрываясь в непропорциональной индивидуальному масштабу политической перспективе, рождает монументальную и даже метафизическую проекцию.
Размышления критика о фигуре Неизвестного, его методе и пластике, помещенные в широкий культурно-исторический контекст от русской иконописи до «левого МОСХа», точно следуют рефлексии советских шестидесятников о себе самих и своих задачах, легитимируя то, что с позиции современного критического искусства кажется малоуместным: патетику военной травмы, дихотомию сексуального и механического, любви и насилия, жизни и смерти. Весь специфический круг тем и образов, которые активно разрабатывались не только Неизвестным, но и другими советскими модернистами. Например, Вадимом Сидуром.
Бёрджер стремится заставить письмо миметически следовать своему предмету и как сознательный реалист открывает в герое то типическое, которое в соответствии с приводимым им же определением представляет собой «уверенное включение [событий и фактов] в лично выработанное, но объективно верное мировоззрение». Политический смысл его проекта обобщен в метафоре деформации (отнюдь не такой плоской, как может показаться из подобного обзора). Опыт военного ранения скульптора, драма его противостояния структурам власти, демонстрируемые особенности его языка вновь и вновь отсылают нас к этому сравнению, за которым в итоге угадывается преданность Бёрджера концепции «деформированного рабочего государства», предложенной Львом Троцким. Заглавие книги и развернутые цитаты из Исаака Дойчера, которые мы встречаем, безошибочно указывают на эту связь.
Памятники Неизвестного могут стать орудием пробуждения советских масс, которые вместе с угнетенными народами бывших колоний и движениями за гендерное и расовое равноправие должны закончить грандиозное дело освобождения, начатое русской революцией. Их очевидное сходство с работами довоенных модернистов, а часто и недостаточная художественная проработка, не должны вводить в заблуждение, так как не могут быть поняты и оценены правильно вне их общественных условий.
Бёрджер, конечно, не знает и не думает о том, что Неизвестный уедет в США, а попытка внутриполитического оздоровления СССР приведет к его распаду. И этот момент перед крушением, фиксируемый на пятидесятилетней исторической дистанции русским изданием его книги, крайне важен. В нем символические инвестиции, которые по сей день составляют то главное, что вписывает отечественную культуру второй половины XX века в универсальный международный контекст, не девальвированы последующей фрустрацией. Это то условное место, откуда альтернативное будущее еще может транслировать себя в текущую постсовременность, давая почву для нашего политического воображаемого.
Помнится, в отзыве, посвященном выставке Скульптуры, которых мы не видим, где работы упомянутого современника и друга Неизвестного Вадима Сидура подверглись нападкам и вандализации со стороны православных фундаменталистов, критик Игорь Гулин тонко подметил: «Присваивая его [скульптора] искусство для собственных нужд… они по-своему возвращают ему пафос сопротивления, возможность страдать (как ни цинично это звучит), вместо того чтобы услаждать любителей уюта высокой грусти. Возвращают ему некую органичную гражданственность». Глядя на окружающие нас руины советского, к которым, по большому счету, принадлежит и наследие Неизвестного (вспомним его монумент в Артеке), я часто думаю, что происходящее — чем дальше, тем больше — сообщает им эту возможность страдать, обретаемую через насильственное изъятие из первоначального контекста; тот героизм, о котором пишет Бёрджер. И в этом смысле несвоевременное возвращение Искусства и революции в сегодняшнюю Россию парадоксальным образом выглядит долгожданным.
Текст: Ярослав Алёшин

