Борис Гройс и Арсений Жиляев: Беседа о «Частных случаях»
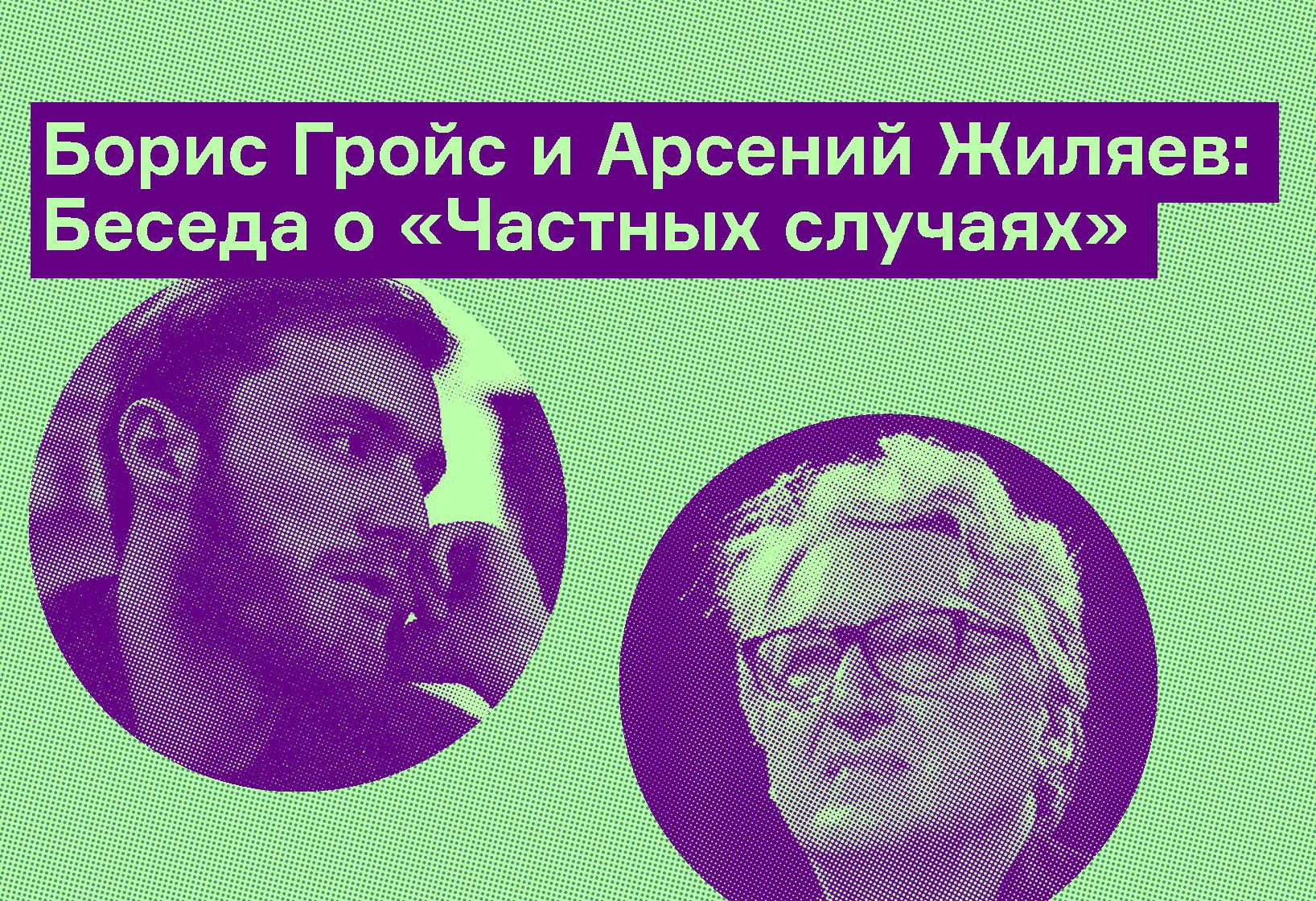
В апреле совместно с Музеем современного искусства «Гараж» мы выпустили электронное издание книги теоретика искусства и философа Бориса Гройса — «Частные случаи». Публикуем расшифровку беседы Гройса с Арсением Жиляевым, художником, куратором и теоретиком современного искусства, по случаю выхода книги.
Арсений Жиляев. Всех приветствую! Сегодня мы собрались в честь знаменательного события — презентации книги Бориса Гройса «Частные случаи», которая выходит в издательстве Ad Marginem и «Гараже». Будем говорить о публикации и о том контексте, в котором мы сегодня эту книгу презентуем. Борис сегодня из Нью-Йорка, я — из ближнего Подмосковья.
Предлагаю начать с каких-то общих, волнующих всех моментов. Я знаю, что вы на карантине в Нью-Йорке, в режиме самоизоляции. Может быть, вы в двух словах расскажите, как переносите эту ситуацию? Как вы пишите в «Дневнике философа», у вас в жизни уже был момент, когда вы вынужденно, длительное время провели дома, прикованный к постели, но вынесли любовь к чтению, открыли для себя Пруста. Есть ли какие-то открытия, связанные с самоизоляцией 2020 года?
Борис Гройс. Да, действительно, в школьные годы я проводил большую часть времени дома — либо в постели, либо просто в квартире. Собственно, я в школу и не ходил. Это время я в основном посвятил чтению и многое прочел. К сожалению, сейчас у меня это не получается. Дело в том, что я вообще все последние годы в Нью-Йорке мало выходил из квартиры. Я ходил только в университет и обратно, а это небольшая прогулка в двадцать минут, так что особенно светской жизни у меня здесь не было. А последние годы тоже как-то болел, поэтому для меня этот переход был практически незаметным. Но надо сказать, что я все время занят каким-то делами вроде написания чего-то, что я уже обещал написать, редактирования чего-то, что мне прислали обратно. Затем я, конечно, веду дистанционные занятия в университете. Мне нужно общаться со студентами, коллегами, вот тоже в Zoom. И это, в действительности, занимает все мое время. Очень мало остается на чтение. Время от времени я читаю какие-то книги, конечно. Но обычно это книги, которые связаны с темами, на которые я что-то пишу или которые преподаю.
АЖ. Понятно. Если продолжить линию коронавируса и какого-то осмысления этой ситуации, то вы, наверное, в курсе как бойко реагирует большая часть ваших коллег по философскому цеху, постоянно продуцируя на эту тему все новые и новые интерпретации. Выдам несколько highlights людей, которых смотрю. Про Жижека, Латура. Жижек одним из первых высказался, что ситуация, которая вызвана коронавирусом, вновь насущно ставит вопрос о необходимости коммунистического планирования, необходимости новой солидарности — и так далее, и так далее. Латур выступил более пессимистично, сказав, что, наверное, это еще не настоящий кризис, это лишь репетиция настоящего кризиса, который случится позже, в связи с глобальным потеплением и другими вызовами, которые нас ожидают. Но в России так вышло, что больше всего обсуждали Агамбена и Нанси. Первый выступил с очень скептическими высказываниями касательно самоизоляции, прежде всего говорил, естественно, о чрезвычайной ситуации, технологии биовласти и так далее. Второй сказал, что все хорошо, но Агамбену, на самом деле, нельзя доверять в вопросах медицины, потому что тот был единственным человеком, который в свое время отговаривал Нанси делать операцию на сердце, благодаря которой французский философ до сих пор жив. Я знаю, что предприимчивые издатели уже готовят некий сборник с тематическими высказываниями, но вы, насколько мне известно, пока что в подборку не попали. Хочу в связи с этим спросить: вас эта ситуация провоцирует на какое-то философское обобщение, и если да, можно с нами поделиться?
БГ. Конечно, сама ситуация, пожалуй, что нет, но вопросы, да, провоцируют. Дело в том, что мне тоже пришлось дать пару интервью, действительно задаются такие вопросы. Я довольно давно преподаю здесь в университете, часто — художникам, сценаристам или молодым писателям. И вот когда я спрашивал, чего они хотят добиться в своей жизни, они все давали один и тот же ответ: «Я хочу снять вирусное видео», «Я хочу написать вирусный текст» или «Я хочу вирусную фотографию сделать» и так далее. Иначе говоря, вирус был для них идеалом, культурным идеалом практически. И вирусность была тем, к чему они стремились. Почему? Потому что вирус объединяет людей, и объединяет не внешне (как государство или экономика), а изнутри. Что-то с ними происходит, они как бы заболевают, меняют свое внутреннее состояние. И это то, к чему традиционно стремилось искусство. Оно стремилось как бы внутренне изменить состояние человека. А теперь это оказалось еще возможным благодаря интернету и тому, что вирус практически стал таким культурным идеалом интернет-эпохи. Сейчас произошло то, что современное общество столкнулось со своим идеалом. Надо сказать, что столкновение с идеалом — это вообще всегда травматическое событие. Это тот момент, когда утопия превращается в антиутопию и очень сложно сохранить обе стороны в каком-то балансе: утопическое и антиутопическое. Если говорить о нынешнем состоянии вирусности, то можно сказать, что мы имеем дело с реализацией метафоры: метафора стала реальностью и эта реальность стала героем, собственно говоря, героем интернета стал вирус. Это главная celebrity и star нашей эпохи. Нет практически уже ни знаменитых футболистов, ни знаменитых интертеймеров, о них уже все забыли, все помнят только о вирусе. И говорят о каком-то знаменитом футболисте не потому, что он забил какой-то мяч, а потому что он тоже заболел коронавирусом. Это, конечно, обидно. Для многих людей обидно, многие люди обижены на коронавирус. Обида очень чувствуется в литературе, в прессе говорят: «Ну вот, этот коронавирус, его слишком переоценили, ничего в нем нет ужасного, он типа гриппа или, может быть, даже менее сильный, чем грипп». Но это всегда так, когда кто-то становится культурным героем и знаменитостью: остальные начинают завидовать. Особенно обижаются на него те, кто сами пишут и хотят сделать что-то вирусное. Так что это все понятная реакция.
Если же говорить об Агамбене и Нанси, то должен сказать, что у них, по меньшей мере, отсутствует интерес к экономике (как и вообще у философов этой школы). Здесь совершенно не учитывается экономический аспект всей истории, который, на самом деле, находится в центре вообще всех мировых обсуждений того, что сейчас происходит. Дело в том, что мы имеем три процесса, которые доминировали еще до коронавируса, но которые коронавирус ускорил и радикализировал. Один процесс — это сворачивание всех оффлайн-экономик, то есть всей традиционной экономики. Она все время потихонечку разорялась, а в условиях коронавируса стала разоряться во много раз быстрее, чем это было раньше. Но она и раньше разорялась. Разорялись и университеты. В Америке, например, разорялись заведения, не такие мощные как Гарвард и Стенфорд. Разорялись книжные магазины, разорялись вообще любые магазины. Вообще все постепенно разорялось. Вторая тенденция — быстрый рост влияния крупных онлайн-корпораций. И третий аспект — борьба государств за контроль информации. В Америке он осуществляется с помощью различения между настоящими и ложными новостями. И Facebook, и остальные онлайн-корпорации подвергаются уже довольно тщательной и массивной цензуре. Так что мы имеем эту констелляцию. Говорить сейчас, что это государство усиливает свое влияние (как говорит Агамбен), — наивно. Потому что базой влияния государства является не онлайн-, а оффлайн-экономика, которая все время разорялась и все время ставила влияние государства под вопрос.
Национальное государство без опоры — довольно традиционное экономическое образование. Оно опирается на экономику индустриальной эпохи, это явление XIX века. Разорение этой экономики — устранение блажи государства. Потому что онлайн-корпорации — это практически всегда глобальные корпорации, и мы, с одной стороны, имеем экономический глобализм, который растет, поскольку влияние онлайн-корпораций растет. С другой — во всех странах, по меньшей мере Запада, растут антиглобалистские политические настроения, которые тоже очень чувствуются в государственном аппарате. Мы имеем экономический глобализм и политический антиглобализм. Это две силы, которые сейчас доминируют по меньшей мере на Западе. Не исключено, что в России тоже. И если посмотреть на экономическую базу антиглобализма, то видно, что она исчезает. Я не уверен, что анализ Агамбена правильный. Что касается Нанси, то это очень индивидуальная реакция. Я участвовал в одной дискуссии с Нанси, и он рассказывал эпизоды из истории своих болезней. Он так же, как и я, отчасти узнал себя в этих историях, хотя у него они тяжелее, чем мои. Это жизнь больного человека, у которого накапливается очень большой резервуар наблюдений на базе того, как он сам справляется со своими болезнями, и как другие на них реагируют. Истории эти были интересные. Я хорошо понимаю его реакцию на Агамбена. Его истории тоже были связаны отчасти с реакциями других философов на его болезни. Я бы сказал, что все эти реакции либо индивидуальные, либо диагностические. Индивидуальные — непонятны, а диагностические, если говорить об Агамбене, по меньшей мере кажутся мне ошибочными.
АЖ. Предлагаю постепенно перейти к обсуждению книги. Это перевод публикации, которая вышла в 2016 году под названием Частные случаи. Состоит она из статей, написанных по разным поводам, в основном для каталогов и журналов, начиная с 1980-х. Разброс художников тоже довольно широкий: от Кандинского и Дюшана до словенских Neue Slowenische Kunst, Младена Стилиновича, Ольги Чернышевой и так далее. В предисловии вы говорите, что эту книгу нельзя рассматривать как некую теорию эстетики, теорию искусства Бориса Гройса, так как в специфике подборки велик случай, и что это, скорее, набор частных, индивидуальных историй, которые так или иначе провоцировали вас на размышления. Но если посмотреть в целом на тексты, которые вы пишите об искусстве, для всех них характерна специфика: часто в них отсутствует то, что можно было назвать горизонтальными связями между произведениями искусства, художниками современности, если речь идет о фокусе последних 20-30 лет. Как правило, методологически вы их отстраняете, помещаете в иной географический контекст или помещаете в контекст истории искусства. Единственным большим исключением, которое мне пришло на ум, был текст о московском романтическом концептуализме, который был написан как раз о сообществе, существующем здесь и сейчас на уровне горизонтальных связей. Я понимаю, что рождение отдельных текстов и книги часто было делом случая, но нет ли ощущения, что сама возможность для солидарности и общности в мире искусства значительно сокращается? Может, стоит подумать даже шире, что в целом реальность сегодняшнего дня всячески сопротивляется любым попыткам универсальных суждений по поводу нее, и нам остается лишь фрагментированность и «частность»?
БГ. Дело в том, что эта случайность отчасти не случайна. Если мы посмотрим на эту книжку, то с Дюшаном и Мандзони я не был лично знаком, они умерли до того, как я начал активно писать. Франсиса Алиса я не встретил, когда был в Мексике, а что касается всех остальных художников, то я их всех знаю лично. И с некоторыми из них провел очень много времени в беседах: с Джеффом Уоллом, с Фишли и Вайс, практически со всеми, о ком там написано. Это не означает, что я поставил их в какой-то контекст, я все-таки был внимателен к тому, в какой контекст они сами себя ставят, это для меня было важным.
Мне кажется, что для автора, пишущего о художнике, довольно полезно знать этого художника лично, чтобы понять, что он за человек, каким образом он сам себя определяет. Можно быть в чем-то с ним согласным, в чем-то — не согласным. У меня была длительная дискуссия с Джеффом Уоллом. Он себя определял одним способом, я его — другим способом, и мы полемизировали по этому поводу. Он даже сделал специальную серию работ, чтобы доказать, что он прав, а я — нет. Это всегда был диалог с художником. В этом смысле, не такая большая разница между этой книжкой и тем, что я писал про художников московского концептуализма, которых я тоже лично знал.
Если говорить об истории искусств, то дело обстоит так, что история искусств исчезла. Она исчезла под влиянием плюрализации исторических нарративов в современном мире, которая началась в последние, может быть, 20–30 лет. Когда-то была нормативная история искусств с каноническим списком художников, которые эту историю образовывали. Но затем начались феминистическое движение, постколониальное движение, затем началась критика нормативного канона и канонического понимания истории искусств буквально со всех сторон. В результате канон разрушился, и вместе с ним —история искусств как таковая. В то же время искусство — довольно традиционная форма деятельности, и ни один художник не может заниматься искусством, не определив своей традиции. Дело не в том, в каком отношении она находится по сравнению с современностью или другими художникам, живущим в современности, а в том, что, когда художник что-то делает, он всегда продолжает какую-то традицию. Если я живописец, я имею какой-то формат и в нем работаю. Мои работы, естественно, сравниваются с другими произведениями живописи. Если я видеохудожник, то это тоже формат, в котором много кто работает, он тоже задан определенным образом, не только технологией, но и определенной историей ее развития и использования. То есть художник всегда должен определить себя в традиции, это совершенно автоматический жест. Но поскольку традиция, канон и история искусства исчезли, то каждый художник придумывает для себя самого канон истории искусств и потом находит в нем свое место. Он как бы компенсирует для себя лично утрату общей истории.
C каким бы художником я не говорил, он всегда рассказывал мне о тех художниках прошлого (например, как в случае с Джеффом Уоллом, вплоть до Брейгеля или Туссена,), с которыми сравнивал себя и по отношению к которым себя каким-то образом позиционировал. Это не значит, что он не отвлекался на современные проблемы, но для меня был интересен именно этот личный исторический нарратив и его конструирование. Я сделал его предметом своей книги, поэтому и не навязываю никакого специфического нарратива. Я просто смотрю на то, как сам художник позиционирует себя в культурном пространстве и каким образом он сам создает ту традицию, которой оперирует. Даже такие очень политически ангажированные художники, как Франсис Алис, ставят себя в определенную традицию. В Мексике этого трудно избежать, но это трудно и в европейском искусстве. Иначе говоря, художник сам делает себе контекст, никто для него контекста не придумывает. Вначале возникает контекст в сознании художника, а потом он в этом контексте делает работу. Этот контекст — то, что меня больше всего интересовало. Эта операция очень близка к тому, что делает любой пишущий человек, в том числе философ. Любой философ, вообще любой автор в наше время создает себе какой-то контекст. Один, как Жижек, придумывает себе какой-то марксизм, которого, быть может, никогда в жизни не было, другой — что-то еще. Потом внутри этого контекста начинает писать и оперировать. Если ты не понимаешь этого контекста, ты вообще не понимаешь, чем этот человек занимается, и это справедливо в отношении искусства, в отношении любой формы письма, в том числе философской.
Если говорить о московском романтическом концептуализме, то он возник в период, когда история не исчезла. На Западе она начала распадаться к этому времени, к 1980-м, и совсем распалась в 1990-х. В России же она все еще была и очень сильно присутствовала. Место, которое в то время вообще занимали неофициальные советские художники и, в частности, художники концептуализма внутри самого неофициального искусства — все эти места были коллективными, а не индивидуальными. Они были хорошо определены исторически и понятны внутри определенной социальной и политической констелляции. После завершения истории СССР все эти места тоже исчезли, и каждый художник стал искать свое собственное место. Если вы прочтете более поздние интервью и тексты того же Кабакова или Булатова (и многих других), то вы заметите, что они выстраивают очень разные традиции и каноны, они позиционируют собственное искусство в очень разных контекстах. Это показывает, что художник не потому строит свой собственный контекст, что ему этого хочется, а потому, что общего нет. Если бы общий исторический контекст был, ему не надо было бы этим заниматься, и он был бы рад этим не заниматься, как были бы рады и художники московского концептуализма. К сожалению, заниматься этим в наше время приходится всем, и потому данное занятие было для меня наиболее интересным. Анализ этого занятия стоит в центре моей книжки.
АЖ. Если говорить про неофициальное искусство, то со стороны казалось, что советский андерграунд очень хорошо разбирался в истории искусства, но при этом всегда стремился к современности, пытался в большей степени сравнивать себя с западными образцами, и в меньшей — легитимировать себя через историю. Но возможно это не противоречит тому, что вы сказали.
БГ. Это не противоречит тому, что я сказал. Потому что если я говорю сейчас о каноне ориентации на историю, то я имею в виду понимание и определение современности. Когда я спрашиваю себя, что такое современность, то это означает, что я ищу различие между тем, что есть, и тем, что было. Вот что такое современность? Для того, чтобы я мог ее определить, мне нужно понять, что было, и в чем состоит отличие от того, что есть сейчас. Когда авангардисты начали все свои эксперименты, то есть свою художественную деятельность, они очень четко определили: раньше была природа, пейзаж, тела, теперь — машина, геометрия, математика и труд, индустриальная цивилизация. Для того, чтобы сейчас что-то делать, нужно понять, что было раньше, и все это убрать из своих работ. Очень многие искусствоведы обратили внимание на то, что черный квадрат всегда более или менее присутствовал в произведениях искусства. Когда я разговариваю со своими западными коллегами, они говорят: «Малевич ничего не придумал, черный квадрат был всегда: и в Средние века, и в Античности, а уж тем более в более позднее время». Но проблема не в том, что черный квадрат был, проблема в том, что Малевич сделал «Черный квадрат» и убрал все остальное.
Что такое современность? Современность — это нечто минус все то, что было раньше. Акция, которая создает новое искусство, — это акция редукции. Все говорят: креативность, креативность, креативность, но никакой креативности в этом нет. В «Черном квадрате» никакой креативности нет. Если вы посмотрите на модернизм, в нем нет абсолютно ничего креативного. Посмотрите на Пикассо: это те же самые кафе, какая-то гитара, здесь нет ничего креативного и ничего нового. Еще нет созданного им. То, что он сделал, — это убрал все остальное. Принцип создания нового — это принцип редукции старого. Но для того, чтобы редуцировать старое, вы должны знать, что это такое.
Когда мы жили в Советском Союзе, официальные художники, которые практиковали суровый стиль, тоже рассматривали современность как современность. Они не говорили: «Мы находимся в прошлом и ориентируемся на какие-то прошлые достижения». Ничего подобного! Они понимали свой собственный стиль как стиль своей эпохи. Более того, и сейчас русское население понимает дела так же, по меньшей мере, в отношении литературы. Что такое период 1960–1970-х? Это Евтушенко, Вознесенский, «оттепель», в лучшем случае еще и Бродский. Это было определение современного, характерного для этой эпохи. В неофициальном искусстве под «современным» имелось в виду что-то другое, и оно не было чем-то западным. Неправильно думать, что была ориентация на Запад: люди просто смотрели, что на Западе делалось, но для того, чтобы этого не делать, потому что это уже было. Никто не повторял фигуры, которые были там, потому что эти фигуры были уже известны. Идея заключалась в том, чтобы все известное убрать и делать то, что еще в этой парадигме, парадигме концептуализма, не было сделано с их точки зрения, которая частично исторически оказалась правильной, особенно в отношении Кабакова, Булатова, Пригова и так далее.
Я просто что хочу сказать: что такое самоопределение в традиции? Это понимание, что такое традиция, с целью ее устранения из собственного творчества. Что ты должен удалить из своего творчества? Этим все художники занимаются. И в зависимости от того, что они понимают как прошлое, результат этого удаления получается очень различный.
АЖ. Я предлагаю вновь вернуться ближе к тексту и книге. Еще один момент, связанный с ее презентацией и датой выхода: я уже упоминал, что четыре года назад вышло английское издание, русский перевод выходит сейчас. Вновь возникает удивительная рифма, если говорить об актуальной ситуации с вирусом и вообще о тех обстоятельствах, в которых мы говорим: через Zoom, в режиме дистанционного интернет-общения. Кажется, что случай внес вот эту рифму между частностью случаев, представленных в книге, и частностью ситуации, в которой мы все оказались, ограниченные окошками Zoom, вырванные из своего привычного контекста. И это связано как с бытом, так и с более серьезными вещами: многие люди сейчас потеряли работу. В США, насколько я понял, беспрецедентный рост безработицы. Если говорить о России, то здесь ситуация чуть более сложная, у нас за увольнения обещают прокурорские проверки и разбирательства, но, как бы то ни было, все понимают, что буквально через месяц-полтора в России ничего кроме бизнеса, связанного с большими государственными корпорациями, которые занимаются ресурсами, ничего не останется. Плюс, как вы тоже, наверное, знаете, с подачи Терешковой у нас появилось новое модное слово — «обнуление». И удивительно, как мы все немножко обнулились, что по-своему близко к авангарду, и карантин выступил вроде такого приема остранения мира в целом. Как мне кажется, состояние, в котором мы оказались, во многом напоминает вещи, с которыми работает российская видеохудожница Ольга Чернышева, которой вы посвятили свой текст. Вы называете ее художницей воскресенья, которая работает с документацией людей, занимающихся опасной деятельностью, самодеятельностью воскресенья, что, с поправкой на день, в который мы говорим, довольно любопытно. Я заготовил две небольших цитаты из этого текста:
Воскресенье означает единственное истинное освобождение — не освобождение труда, а, скорее, освобождение от труда. Воскресенье означает свободное время — освобожденное время. Но свобода времени соотносится с онтологическим ядром человеческого бытия. Человек существует во времени: если время становится свободным, эта свобода представляет для человека глубинную опасность. Поэтому воскресенье — самое опасное для человеческой жизни время.
И дальше:
Разнообразные религиозные ритуалы, включая традиционное хождение в церковь, а также посещение спортивных событий, театров, кино и музеев, телевидение и интернет, шоппинг и прочие формы потребления — все это институции, цель которых — структурировать и контролировать свободное время. Герои видео Чернышевой, наоборот, предоставлены самим себе. Они выпали из старых, социалистических устоев жизни, и у них недостаточно денег, чтобы включиться в потребление, соответствующее условиям новой капиталистической экономики. Поэтому они остаются одни, один на один со своим свoбодным временем.
Дальше вы пишите, что время воскресенья всегда таит в себе опасность, потому что это время потенциальной революционной активности, время карнавала, который тоже всегда несет в себе риск, и в этом угадываются опасения власть имущих сегодня, как в мире в целом, так и в России в частности. Пока что до революционных настроений дело не доходит, но вместе с тем мы видим явления, которые во многом можно было сравнить с пролеткультом. Такое спонтанное творчество масс: когда люди выходят на балконы, чтобы совместно исполнять музыку, делают флешмобы, организовывают какие-то визуальные соревнования в социальных сетях и так далее. При том, что мы понимаем: система искусства стоит на паузе, большая часть проектов заморожена. Профессиональное сообщество выглядит здесь довольно неубедительно на фоне массового забоя творческой активности. В связи с этим у меня вопрос: затянется карантин или не затянется, как вы думаете, есть ли шанс, что этот опыт радикально изменит искусство? Возможно, пройдя через опыт такого массового творчества людей воскресенья, фигура художника традиционной институции будет радикальным образом пересмотрена?
БГ. Я думаю, что этот пересмотр начался уже достаточно давно. Он прежде всего связан с интернетом и с такими феноменами, как Instagram и Facebook. Я говорил уже о своих студентах: многие из них мне говорили, что нужно ликвидировать все галереи, все музеи и всю художественную систему, а местом искусства должен стать Instagram. Чем занимаются люди в Instagram и Facebook? Они выступают в качестве художников и писателей. Они описывают свои впечатления, прогулки, обстоятельства своей жизни, они фотографируют, комбинируют свои фотографии с текстами, то есть производят концептуальное искусство, они снимают видео и выставляют их и так далее. Это все форма художественной деятельности. В свое время Ги Дебор противопоставлял массовой культуре, которую он понимал как культуру потребления, подобные непрофессиональные практики: прогулка по Парижу от одного кафе к другому или что-то в этом роде. Сейчас все стали Ги Деборами, в Facebook 2,5 миллиарда Ги Деборов, каждый из которых описывает свои прогулки и свои впечатления. Мы живем не в эпоху массовой культуры, понимаемой не как массовая культура потребления, а как массовая культура производства. Это ставит перед художником новые задачи.
Довольно интересно, что, если посмотреть на первые тексты, которые были связаны с подобного рода проблемой, они все группируются вокруг революции 1848 года. Тогда впервые началась систематическая критика профессионализации искусства, то есть появления искусства, оплачиваемого публикой, и художественного рынка. Маркс считал, что в коммунистическом обществе будут только художники воскресенья, не будет никакой профессионализации искусства. То же самое Рихард Вагнер, который непосредственно участвовал в революции 48 года и эмигрировал в Швейцарию. Он писал, что в коммунистическом искусстве будущего будет только массовое искусство, только художественная практика, касаемая самих людей, но никакого профессионального искусства не будет. Если говорить о пролеткульте, то это достаточно интересный феномен. Если вы посмотрите на Богданова, Арватова, Тарабукина и тех, кто развивали теории внутри теоретической мысли, внутри пролеткульта, то они все считали, что художник должен быть заменен куратором. Почему? Потому что они говорили — не нужно делать искусство, оно должно подчиниться организационному принципу. Чем занимается профессиональный художник в отличие от массового художника? Не тем, что он производит искусство, а тем, что он его организует: организует выставки, какие-то мероприятия и так далее. И если вы помните, все абсолютно было переинтерпретировано в терминах организации. Богданов писал о том, что Гамлет — прекрасный пример скепсиса и отчаяния. Все должно было быть построено на принципе организации экспозиции. Это было в какой-то мере предвосхищением современной художественной ситуации, когда институции и индивидуальные кураторы берут на себя функции организатора и выбирают из массы существующего визуального и литературного материала нечто, что, как им кажется, будучи организованным, презентует публике определенную позицию. Но это так только в тот момент, когда они это делают, потому что через неделю или месяц, сколько длится выставка, это все снова распадается. Мы имеем постоянно возобновляемую организационную деятельность, которая не удерживается своих результатах. Сейчас все больше и больше начинают думать о ее удержании. Вы знаете, что сейчас осуществляются повторения выставок прошлого. Богдановская деятельность имеет определенную специфику, которая делает ее авангардной, и эта специфика, кстати, единственно возможная в авангарде, обнуление, о котором вы говорите.
Дело в том, что обнуление в производстве художественных вещей невозможно. Мы не живем эпоху, когда писатель начинает писать с чистого листа, то есть с белых страниц. Они играли большую роль в литературе XIX века, например, у Малларме, но ее больше не существует. Когда я пишу на компьютере, то делаю это уже в форматированном пространстве. Я никогда не достигаю исходной белизны. То же самое и с визуальным искусством: белый холст, который играл такую большую роль у Малевчиа, а потом в 1960-х годах в минимализме, тоже исчез. Но white cube остался: ты открываешь свою выставку, она исчезает, все выносится, и остается только белое пустое пространство. В этом пространстве можно начать сначала. В кураторстве это необычайно фрустрирует: все рассыпается и исчезает, но дает ему шанс; с другой стороны, это шанс нового начала с нуля, с пустого пространства. Вся современная художественная практика находится в этом напряжении между пессимизмом, вызванным исчезновением всего того, что люди делают, и некоторой эйфорией от того, что они всегда могут начать сначала.
АЖ. Подмечу один момент. Забавно, что в русском языке слово «куратор» используется для определения людей, связанных с Кремлем, которые контролируют ту или иную политическую систему. В этом смысле слово «обнуление», которое из авангарда перешло в политический контекст, здесь звучит особенно смешно: в каком-то смысле Терешкова и ее коллеги выступили в качестве кураторов нашей новой политической реальности. У меня последний вопрос, который связан, как мне кажется, с центральной темой книги — специфика сегодняшнего воскресного дня или же сознательный выбор. Но думается, что один из центральных лейтмотивов Частных случаев — разные эффекты теологического характера, которые мы встречаем на территории современного искусства. Буквально с первого текста, в особенности с текста про Дюшана, религиозная рамка появляется очень четко. Я процитирую небольшой фрагмент, который, наверное, уже стал на сегодняшний день культовым: «Можно сказать, что Фонтан Дюшана — это своего рода Христос среди вещей, а практика реди-мейда — своего рода христианство в искусстве. Христианство берет фигуру обычного человека и, нисколько ее не изменяя, ставит ее в контекст религии, в пантеон традиционных богов. Музей, понятый как отдельное художественное пространство или как вся художественная система, также выступает местом, где может инсценироваться новизна, помимо всех различий». Далее вы анализируете религиозный опыт в контексте работ Мандзони, иконографические эффекты фотографий Джеффа Уолла, построение рая на земле у Чернышевой и так далее. Я со своей стороны могу заметить, что очень много художников в той или иной степени обращается к религиозному опыту. Мне на ум пришел Василий Чекрыгин, который последовательно занимался исследованием искусства как своего рода технологии, призванной выполнить главное обещание религии, обещание вечной жизни и воскрешения. Если говорить о более близких к нам примерах, то Кабаков, который в фильме Бедные люди. Кабаковы рассказывает о том, что отказался от тотальных инсталляций во многом из-за условий их модификации, которые его не устраивали, потому что они были слишком нестабильны и недостаточны с точки зрения технологий, обеспечивающих бессмертия художника. В этом смысле живопись кажется ему более предпочтительной. С другой стороны, мы видим, что современное искусство и церковь не могут ничего поделать с вызовом времени. Все, что остается — лишь некое обещание лучшей жизни.
Музеи сегодня закрыты, церкви тоже, мертвых отпевают через Zoom, ситуация с этой точки зрения не очень хорошая. Есть ощущение, что пандемия вместе с экономическими проблемами принесла в том числе и кризис веры, говорим ли мы о вере в реди-мейд Дюшана или же о чудодейственных мощах. Как вам кажется, какой социальный институт сможет стать резервуаром для надежд на лучшую жизнь в будущем, после того как ситуация с карантином все-таки закончится?
БГ. Прежде всего, я согласен с вами. Разумеется, теологический подтекст в этой книжке есть, как и во всех моих текстах, он очень силен. Я думаю, этот подтекст сильнее, чем философский, если угодно.
Если мы посмотрим на религиозный опыт, то он, собственно говоря, осуществляется именно таким способом, каким я описал художественно-литературный опыт раньше. Что такое религия вообще? Это отбрасывание традиции и сохранение этой традиции в результате ее отбрасывания.
Возьмем соотношение Ветхого Завета и Нового Завета. Как Христос формулирует свое учение? Например, в Нагорной проповеди. Он говорит: «Вам говорили одно, а я вам говорю другое». Эту проповедь можно понять, только если ты знаешь, что говорили раньше. Поэтому Христос выходит за пределы закона и отменяет закон, и в то же время сохраняет его именно путем его отмены. В результате мы имеем в качестве священной книги христианства комбинацию Ветхого и Нового Завета, то есть объяснение того, почему все прежнее нужно отвергнуть и что, собственно говоря, было. Если мы идем дальше, смотрим на протестантизм, то мы можем объяснить его только тем, что Лютер воспринял Рим как новую вавилонскую блудницу, а римского папу — как нового антихриста. Чтобы объяснить это, нужно воспроизвести всю систему католической церкви и католической веры, иначе протестантизм просто невозможно понять. Это и есть модель, по которой движутся искусство и литература в эпоху модернизма, то есть они воспроизводят теологическую модель сохранения прошлого путем отталкивания от него. На этом же построены и музеи. Они возникли после Французской революции как способ сохранения религиозных памятников других культур после завершения веры в эти культуры, то есть там помещены иконы, которым никто не молится, боги африканские, перуанские, какие-то мумии, к которым никто больше не испытывает никакого священного трепета, но на которые интересно посмотреть. Они сохраняются и дают нам эстетическое удовлетворение. Иначе говоря, музей бессмертие души, к которому стремились раньше, заменяет бессмертием тела, материальным бессмертием. Поэтому Федоров делал ставку на музей как на то место, в котором сохраняются тела и материальные объекты именно в их материальности. При этом вера в них отрицается. Никто не будет молиться перед «Мадонной» Рафаэля, это полный абсурд.
Что же мы имеем сейчас? Эпоху исчезновения и ликвидации музеев как конституции. Это происходит потому, что канон исчез, история искусств исчезла, что представляют собой музеи — совершенно непонятно. Музеи хотят привлечь зрителя, они заполняются сейчас какими-то привлекательными временными выставками, посвященным кинозвездам или звездам рока, спорта и еще чему-то. Иначе говоря, то обещание личного бессмертия для художника больше не работает. Музей больше не является местом такого общения. Характерно, что искусство реагирует на исчезновение этого обещания так же, как церковь отреагировала в XIX веке на исчезновение обещания бессмертия души. Оно становится каритативно и полезно. Сейчас все искусство, как церковь в XIX веке, заботится о больных и бедных, занимается терапией душевнобольных и вообще делает что-то полезное для общества. Этот переход от обещания бессмертия к обещанию полезности церковь уже проделала в течение эпохи секуляризации, и сейчас искусство повторяет его практически дословно.
Если вопрос в том, что является новым обещанием бессмертия, то на него трудно ответить. Я думаю, в головах людей бродит возвращение к новой форме христианства, то есть к пониманию души как алгоритма. Если понимать душу как алгоритм, то можно себе представить возможность переписать этот алгоритм с человеческого тела на электронную машину, а затем подключить к искусственному интеллекту, который сейчас выступает эквивалентом божественного разума. В какой мере такой проект удастся — сказать трудно. Во всяком случае, это какой-то явный разрыв с надеждами на сохранение тела, вообще со ставкой на тело, которая была характерна для материализма XVIII, XIX и XX веков, очередной переход к какой-то мечтательной спиритуальности. То есть на уровне мечтательности — искусственный интеллект, на уровне реальности ничего такого пока нет.
АЖ. Амбивалентные выводы. Не очень оптимистичные. Спасибо, Борис, за ваши ответы. Вообще, касательно того, что вы говорили про мечту и алгоритм, я подумал, что есть же клиники, которые устроены в режиме прямого мечтания: сохраняется даже тело или какой-то фрагмент тела, но его будущее полностью зависит от алгоритмов и во многом зависит от некой мечты и идеала, который может случится, а может и не случится.
БГ. Это интересное развитие. Дело в том, что когда мы говорим об искусственном разуме, то эта мечтательность носит платонический характер, потому что Платон считал, что душа состоит из трех частей. Некоторые части связаны с нашей жизнью на земле, а одна часть отсылает к нашей жизни бывшей, возможно, в окружении богов. Эта та часть, которая занимается математикой и геометрией. Потом эта идея забылась. Когда мы говорим, что человек разумен, то это означает, что он заботится о своей жизни и старается избежать смерти. Неразумный человек ставит себя на грани смерти и рискует, человек благоразумный избегает смерти. Это определение есть и у Платона. Оно стало доминирующим, поэтому нам трудно понять, в какой мере эти алгоритмы являются действительным сохранением нашего разума, потому что наш разум диктуется отношением к смерти, в частности, шансами, которые дает смертность, а также страхом, который она вызывает. Если это убрать, то что останется от нашего разума? Только математика. Можем ли мы идентифицировать нашу субъективность математикой? Это довольно сложно.
АЖ. Согласен. Зрители задали несколько вопросов. Вопроса два: если случится так, что получится создать искусственный интеллект, останется ли потребность в боге и, в частности, в религии? И второй вопрос: Борис, скажите, пожалуйста, помогло ли вам математическое образование в вашей работе философа/искусствоведа/куратора?
БГ. Да, я думаю, что помогло в каком-то смысле. Дело в том, что я как раз обучался математической логике и отчасти математической лингвистике. Затем в Московском университете я занимался как раз в группе искусственного интеллекта. Я думаю, что в это время у меня было ощущение того, что можно, а что нельзя, что возможно, а что нет, и оно у меня осталось. Я думаю, что определенные критические отношения к этим теориям важны для современной культуры. Но я должен сказать, что школьные года я провел взаперти, а в университетские вышел на улицу, и тогда мне жизнь питерской богемы была намного интересней, чем университет. Учиться я мог и дома, а тогда я познакомился со всеми художниками, поэтами и вообще альтернативными фигурами питерской жизни. Я думаю, это повлияло на меня больше всего. Университетские годы для меня были очень богемные. Я их провел не столько в изучении математики, но в знакомстве с художественной, поэтической и альтернативной жизнью Петербурга. Меня в то время очень интересовала независимая богемная культура, потому что она представляла собой контраст по сравнению с той жизнью одинокого читателя, которую я вел очень много лет до того, как начал знакомиться с реальностью, которая меня окружала. Я знакомился с ней на различных уровнях, но больше всего мне понравилось и было близко все то, что пыталось определить себя не зависимо от господствующей системы.
Может быть, я скажу странную вещь. Мы говорили, что время — это свобода, а свобода — это время, и в каком-то смысле, если ты стремишься к свободе, то одной из важных форм свободы является то, что свобода определяет свое время, то есть ты сам решаешь, когда и чем занимаешься, а это и есть художественно-литературная форма деятельности. Разница в стиле жизни между человеком, который работает в официальной сфере и человеком, который работает в какой-то альтернативной практике, будь то художественно-литературная или философская сфера — это разница в степенях свободы, в организации своего собственного времени, а это очень элементарная, но важная форма свободы. Она тесно связана с идеей смерти, потому что, когда ты что-то пишешь или что-то делаешь в подобной сфере, ты всегда имеешь такую вещь как дедлайн, момент смерти после которого эта работа становится невозможной, ты должен сделать ее до этого момента, но как ты ее сделаешь до этого момента — твое собственное дело. Поэтому каждое занятие с текстом прокручивает логику твоей жизни, ты должен что-то сделать до какого-то момента. Эта онтологическая сторона свободы в художественно-литературной деятельности привлекает просто как форма жизни.
АЖ. Последний вопрос. Люди интересуются Instagram: «На ваш взгляд, изменится ли понимание художественной искренности в связи с практиками в Instagram, и важна ли вообще эта категория?» Еще спрашивают: «Этично ли в принципе издавать писателей из Facebook и выставлять художников из Instagram?»
БГ. Проблема в том, что, когда мы работаем в Facebook или в Instagram, мы работаем бесплатно. Плодами этой бесплатной деятельности пользуется компания Facebook, Цукерберг, мы работаем на него. Поэтому люди говорят: «Давайте монетизируем Instagram», — то есть за работу в Instagram люди стали бы получать деньги. Если это будет так, тогда люди, в том числе художники, если они будут популярны, смогут жить благодаря Instagram. Им не нужно будет больше апеллировать к художественной системе. Но, конечно, это иллюзорное предложение, потому что здесь возникает эффект рынка, эффект соревнования, эффект конкурентного понимания искусства как способа обеспечить свое экономическое выживание в мире. Интересно, что Instagram и Facebook напоминают неофициальное искусство в Москве — на них нельзя заработать по-настоящему. Нужно быть в корпорации, а если ты просто юзер, то ты по-настоящему не заработаешь, то есть ты находишься в состоянии эксплуатации по отношению к не-корпорациям. Просто эта корпорация, поскольку она находится где-то в Калифорнии, не воспринимается так прямо, как тогда советская власть, хотя идея та же самая.
В Америке все-таки Калифорния ближе, и ощущение эксплуатации здесь больше распространено. Я замечал, что если отдалиться от Америки, то оно как-то теряется. Кажется, что это какая-то абстракция. В общем, идея та же самая: работа, за которую ты не получаешь ничего, кроме морального удовлетворения. В каком-то смысле здесь есть коммунистическая модель, но только в несколько перверсированном виде. Кроме того, любая работа в Facebook или в Instagram имеет характер самодоноса, поскольку ты пишешь о себе, своих знакомых. Это сочетание исповеди и самодоноса. Соответственно, божественный интеллект, вот эти машины Facebook, алгоритмы, они все это анализируют, как в свое время божественный разум, но, в отличие от божественного разума, еще и коммерциализируют. Я знаю, что все это воспринимается как какая-то большая абстракция. Но я все-таки здесь, и мне это не кажется абстрактным.

