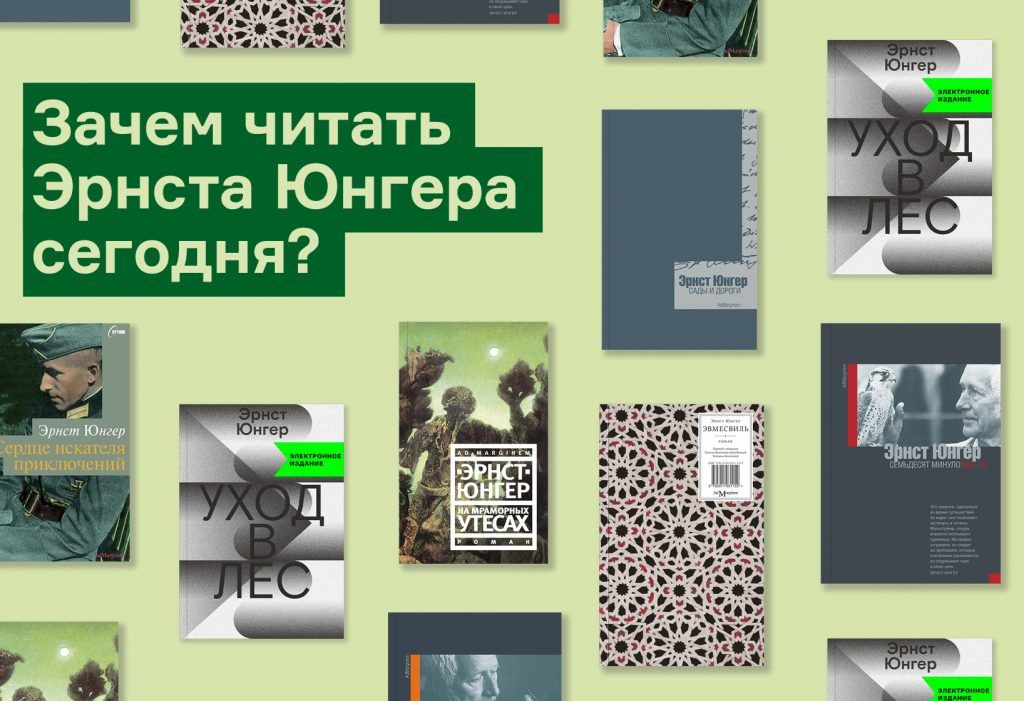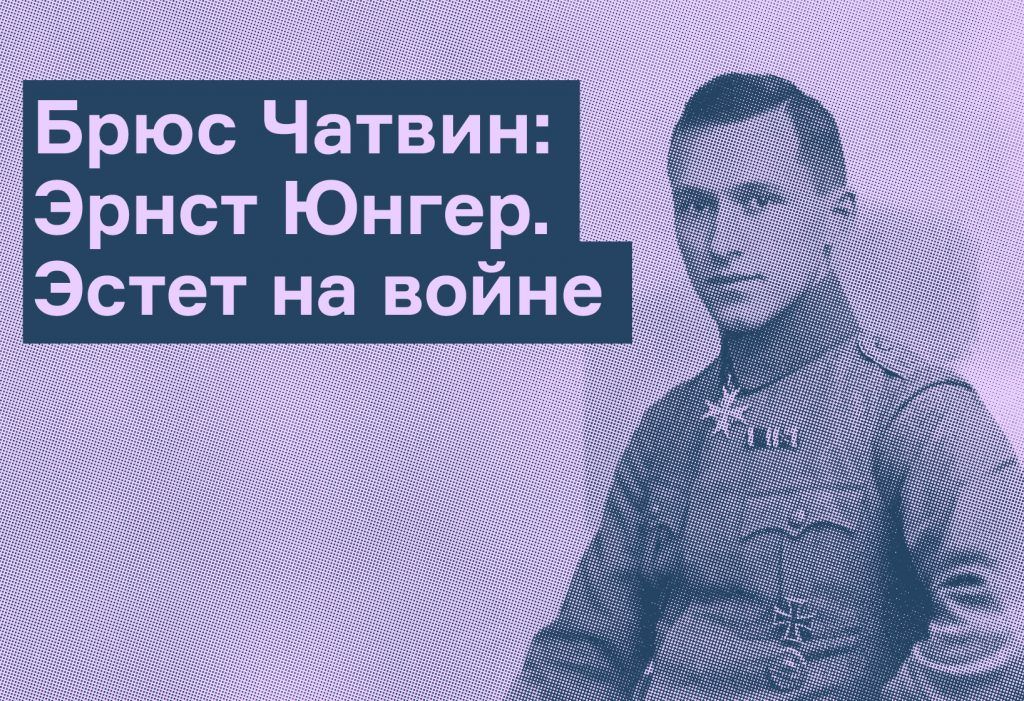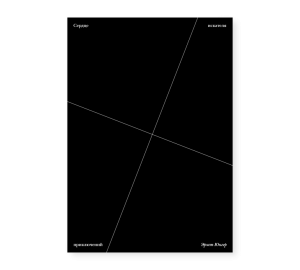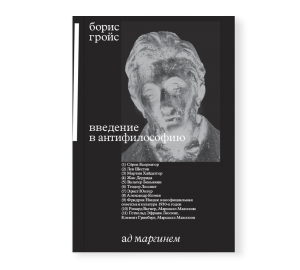Послесловие редактора перевода к книге «Уход в Лес»
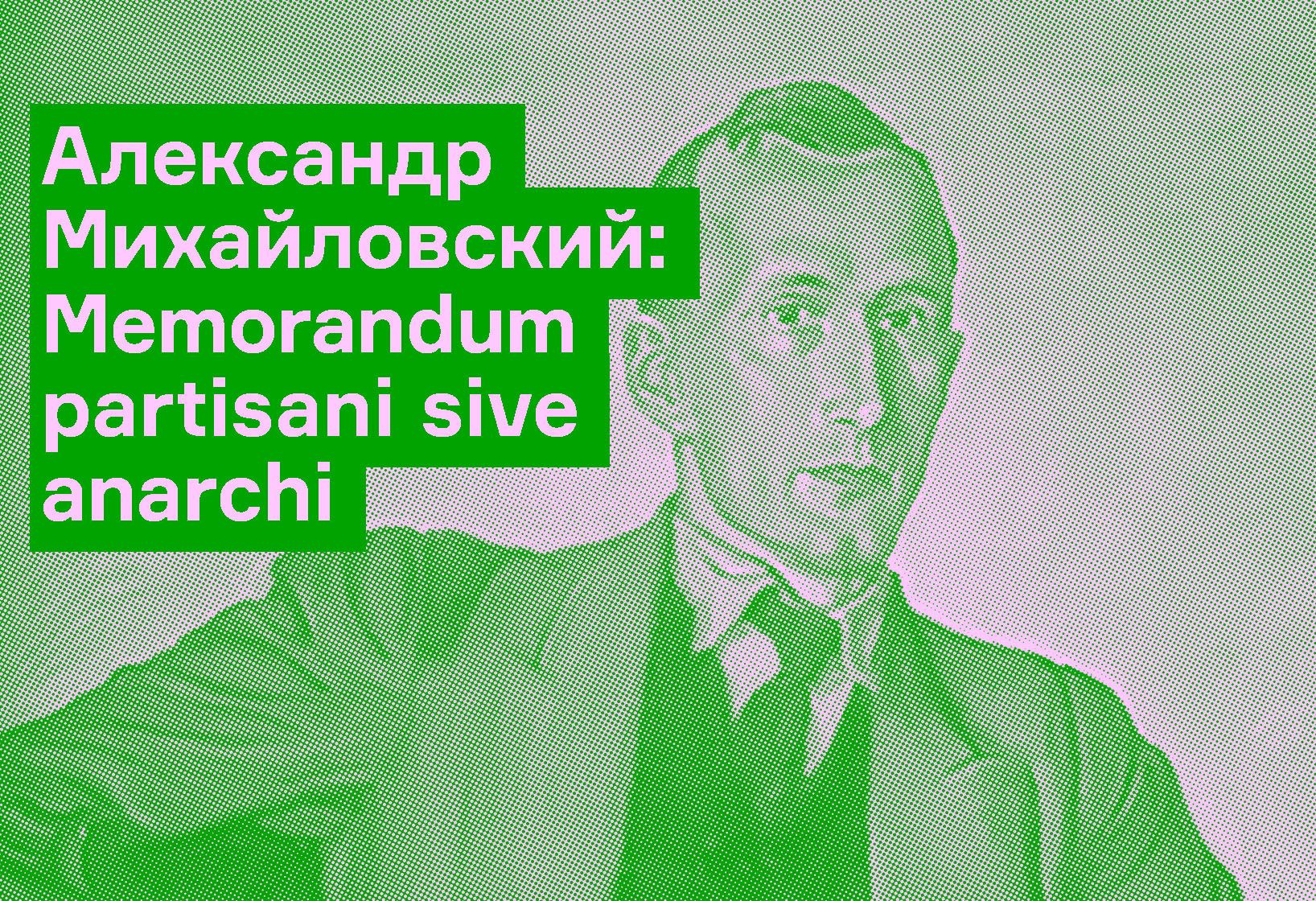
Эссе «Уход в Лес» увидело свет в 1951 году. В 19-й главке эссе Эрнст Юнгер пишет о постигшей европейца катастрофе: «Никто не волен её избежать, но всё же и в ней можно обрести свободу. Будем считать её испытанием». Ближе к концу, в 32 параграфе, автор снова говорит об испытании, более тяжёлом, чем испытание войной, которое выпало на долю немца. Немец выдержал это испытание «молча, без советчиков, без друзей, один в этом мире». Здесь Юнгер уже подразумевает разделение Германии. В оригинальном тексте и в том, и в другом случае стоит слово Prüfung. Древняя тема испытания, проверки, искушения неоднократно звучит в книгах Ветхого и Нового Заветов. Со второй половины 1930-х годов Библия была ежедневным чтением Эрнста Юнгера. Например, в дневнике «Сады и дороги» 29 марта 1940 года он записывает, что в свой 45-й день рождения утром, у открытого настежь окна, прочел 73-й псалом (72-й в православной традиции): «Яко возревновах на беззаконныя, мир грешников зря. Яко несть восклонения в смерти их, и утверждения в ране их. В трудех человеческих не суть, и с человеки не приимут ран. Сего ради удержая гордыня их до конца: одеяшася неправдою и нечестием своим. Изыдет яко из тука неправда их, преидоша в любовь сердца. Помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша. Положиша на небеси уста своя, и язык их прейде по земли…». Спустя два года, когда капитан Юнгер уже служил в штабе командующего войсками оккупированной Франции полковника Ханса Шпайделя, будущего участника «заговора 20 июля», из Министерства пропаганды Рейха поступило предписание на имя начальника с требованием убрать из верстки «Садов и дорог» некоторые подозрительные места, в том числе эту самую цитату из псалма. Шпайдель ответил одной лаконичной фразой: «Я не повелеваю духом своих офицеров».
В трактате «Мир», задуманном зимой 1941 года, завершённом в 1945 и опубликованном в 1948 году, Юнгер писал о том, что будущий мир должен быть основан на «словах спасения», «Heilsworte». Ветхозаветные пророки, посредники между Богом и народом Израиля, обращали «слова спасения» к царям в критические моменты еврейской истории. Речь пророка имела две части — увещевание и обетование спасения, под которым, как правило, понималось спасение от врагов. Изначальной функцией «слов спасения» в ветхозаветной литературе являлась угроза в адрес врагов Израиля. В «Мире» Юнгер преодолевал её в новозаветном духе любви. По его мысли, «слово спасения», адресованное народам и правителям Европы, должно было звучать так: «Война обязательно принесёт плоды для всех». Война взрастила погибельные семена «больших теорий» XIX столетия, изобретённых холодным человеческим рассудком — идей всеобщего равенства, а также теорий, обосновывавших неравенство людей. Меркой теорий мерили индивидов, расы, народы, и стоило только принести первые жертвы, как жажда крови разожглась до невероятных размеров. «В этом ландшафте страданий мрачно возвышаются имена великих оплотов смерти, где люди в крайнем ослеплении уничтожали целые народы, расы, города, где тяжёлая как свинец тирания в союзе с техникой справляла свою бесконечную тризну». Плоды войны, по мысли Юнгера, уже неотделимы от принесённых всем человечеством жертв. Они в свою очередь станут тем «добрым зерном», которое обеспечит человечество хлебом на долгое время. Именно так, а не иначе проявится исцеляющая сила боли. В конце эссе помещен призыв — не к Европе, не к нациям, и даже не к немцам, а к «единичному человеку» (der Einzelne). Диктатура научила ценить индивидуальную свободу, обратной стороной которой является ответственность единичного человека.
Мир не может произойти от усталости… Для мира недостаточно нежелания вести войну. Подлинный мир предполагает мужество, и оно даже превосходит мужество воинов, ибо есть не что иное, как выражение духовной работы, духовной силы.
Довольно скоро Эрнст Юнгер осознал, что стремление к подлинному миру не может получить удовлетворение в достигнутом состоянии послевоенного политического порядка. Отсюда рождается новый вопрос, пронизывающий собой всё эссе «Уход в Лес», вопрос о «свободе человека перед лицом изменившейся власти».
Итак, «Уход в Лес» продолжает исследовать результаты испытания войной и разделением народа. Мысль об испытании, искушении звучит в Библии многократно и многообразно, хотя на сей раз и не получает экспликации в юнгеровском тексте. Но, например, в книге Премудрости Иисуса сына Сирахова, важной для понимания значений многих евангельских притч, мы встречаем замечательный стих: «Иже не искусися (epeirathē), мало весть: обходяй же страны (peplanēmenos) умножит хитрость (panourgian)» (Сир 34:10). В этом месте удивительным образом встречаются все три ключевые для Юнгера темы — испытания (греч. peirasmon), пути (от греч. planaō со значениями странствовать, блуждать, скитаться) и приёмов (panourgia) самообороны одиночки в борьбе против Левиафана.
Правда, в 17-й главке Юнгер говорит о Waldgang’е и о Waldgänger’е не в контексте какой-то притчи, а со ссылкой на скандинавскую этимологию:
…это понятие уже имеет свою предысторию — старинное исландское слово. Мы понимаем его в расширительном смысле. Уход в Лес следовал за объявлением вне закона; этим поступком мужчина выражал волю к отстаиванию своей позиции собственными силами. Это считалось достойным тогда, и таковым остаётся и сегодня, вопреки всем расхожим мнениям.
Однако ничто не мешает рассматривать Ушедшего в Лес как мифическую фигуру — если, конечно, исходить из того, что миф не доисторичен, а внеисторичен. В любом случае Юнгер отмечает важнейший для понимания момент: этот термин обозначает некий стереотип или некую модель поведения, которая по рангу отличается от других поведенческих типов. Действия Ушедшего в Лес связаны с тем топосом, через который он собственно характеризуется, с топосом Леса. Топология классического Востока, конечно, отличается от топологии классической Европы. Тот, о котором говорит Бен-Сира, «странствует». С любым путешествием (которое, как правило, совершалось в составе торгового каравана или войска) был всегда связан огромный риск. Ушедший в Лес тоже подвергает себя риску, однако он не «обходит страны», как какой-нибудь Синдбад-Мореход, а буквально отваживается на Уход в Лес, ведь оттуда можно уже не вернуться. При этом он не является автохтонным жителем леса. В лесу он также не ищет убежища или успокоения от житейских бурь. В самом начале эссе сказано:
Уход в Лес — отнюдь не идиллия скрывается за этим названием. Напротив, читатель должен быть готов к рискованной прогулке не только по проторённым тропам, но и, быть может, уводящей за пределы исследованного.
Какой же телесно-феноменологический опыт соответствует топосу Леса или, точнее сказать, германоскандинавского леса? Лес неотделим от гор средней высоты — он растет вверх во всех смыслах. Лес просматривается на сто-двести шагов — без сильного бурелома и валежника. Неспешным шагом путник идет вверх по дороге, с каждым витком идти становится всё труднее. Он останавливается передохнуть и оглядывается: в просвете открываются луга и стройные ряды елей на соседних вершинах. Лес объемлет собой все горы, расступаясь лишь далеко внизу на равнине. Дальше дорога делает поворот. Огибая вершину, путник через какое-то время видит место, которое он недавно миновал. Склон уходит вниз, и после каждого нового поворота можно видеть пройденный и лежащий внизу под ногами участок пути. И вдруг дорога внезапно обрывается прямо посреди леса. Здесь из поросшей мхами земли бьют ключи, которые образуют горные речушки и напитывает влагой плодородные почвы. Так выглядит лесная тропа (Holzweg) прокладываемая лесниками для своих нужд. Дальше — никаких следов человека, ни проторённой дороги, ни опознавательных знаков-засечек. Дальше — риск встречи с жутковатым Старшим лесничим, столь ярко описанной в «Сердце искателя приключений».
Holzweg — слово, связанное в новейшей немецкой философии и литературе с именем Мартина Хайдеггера. «Holzwege» (так называлась и первая послевоенная книга Хайдеггера, вышедшая в 1950 году) — это лесные тропы, «поросшие травой и внезапно обрывающиеся в нехоженом». «Нехоженое» — это область нетронутого, непродуманного, однако не в смысле «ещё не». Оно ускользает от человека, привыкшего к размеренному пространству и времени. Хайдеггер любил приглашать своих гостей, приезжавших к нему в хижину в Тодтнауберге, на прогулку по лесу до местечка Штюбенвазен. Ответвляющиеся от основной дороги лесные тропы, известные дровосекам и лесникам, были ведомы и философу.
Среди его гостей были ученые, философы и поэты — Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Пауль Целан, братья Эрнст и Фридрих Георг Юнгеры. Осенью 1948 года состоялась первая личная встреча Э. Юнгера и Хайдеггера. Вспоминая о той встрече в письме от 18 декабря 1950 года, Хайдеггер счёл важным упомянуть «обнадеживающее чувство родства, когда двое идут по лесной тропе». Тогда, во время прогулки в горах Шварцвальда, он уговаривал Юнгера выпустить новое издание «Рабочего». А от как вспоминает о встрече с «германским мастером» сам Юнгер:
Уже при первом взгляде я почувствовал нечто, что было не только сильнее слова и мысли, но и сильнее личности. Простой как крестьянин, но крестьянин сказочный, который по желанию может превращаться. „Сокровища в сумрачной еловой чаще“. В нем что-то чувствовалось от охотника, который ставит в лесу капканы.
То был знающий — человек, которому знание приносит не только богатство, но и весёлость, как того требует от науки Ницше. В своем богатстве он был неприступен (unangreifbar) и даже неуловим (ungreifbar) — если вдруг явится судебный пристав, чтобы описать его последнее платье. Чего стоил один хитрый взгляд со стороны, он понравился бы и Аристофану!
Мыслитель как Хайдеггер или писатель как Юнгер чувствует себя в лесной стихии так же уверенно, как крестьянин, лесник или охотник, расставляющий ловушки. Укоренённость в лесу воздействует сильнее рассудочного слова с его логическим и риторическим строем, всеобщностью и индивидуальностью. Лес — это опять-таки еще не размеченная, не упорядоченная человеком земля. В Лесу царство свободы: жители Леса веселы, независимы, суверенны, хитры, потому что всегда имеют возможность уйти в горы, ускользнуть от судебного пристава, сборщика податей и, в конечном счете, от Левиафана. В последнем предложении из цитаты делается тонкий намек (через фигуру Аристофана) на хитрость и ловкость, софию греков, родоначальников философии, которая потом, у раннехристианских богословов, переосмыслялась в свете Софии, Премудрости Божией.
Но вот ещё одна цитата из Юнгера.
Родина Мартина Хайдеггера — Германия с её языком; родина Хайдеггера — Лес. Там он чувствует себя как дома — в нехоженом, на лесных тропах. Брат его — дерево.
Когда Хайдеггер погружается в язык, он делает больше, чем — как сказал бы Ницше — требуется «среди нас, философов». Хайдеггерова экзегеза больше, чем филология, больше, чем этимология: он ухватывает слово там, где оно ещё свежо, в полной силе. Оно дремлет в зародыше молчания, чтобы могуче подняться из насыщенного лесного гумуса.
Кажется, в этих словах автор как будто дает развернутый комментарий к известному афоризму Хайдеггера «Язык есть дом бытия». Язык как семя вырастает из почвы и разворачивается в свободном росте, не нуждаясь ни в питательных веществах, ни во влаге. Дом бытия стоит в Лесу и построен из древесины.
Та же тема обыгрывается и в последней, 34-й главке «Ухода в Лес»:
Язык не живёт по собственным законам, иначе миром правили бы грамматисты. В своей первооснове слово не форма, и уж тем более не код. Оно становится тождественным с бытием. Становится творческой мощью. Там источник его неимоверной, неиссякаемой силы. Здесь лишь приближения к этой силе. Язык ткёт свою ткань вокруг тишины подобно тому, как оазис образуется вокруг родника. И существование поэзии — лучшее подтверждение тому, что войти во вневременные сады уже удавалось не раз.
Лес следует определять или описывать скорее апофатически как не находящийся в собственности человека, неподвластный человеку. В нём не действуют правовые и хозяйственные законы. Собственность, владение начинаются с имени, а Лес ускользает от называния. Его можно обозначить знаком «Y», который Юнгер будет использовать в своем романе 1973 года «Рогатка». Y, ипсилон, — это тайный пифагорейский знак, символизировавший развилку на жизненном пути, судьбоносный выбор между добродетелью и пороком. В то же время это первая буква греческого слова YΛΗ, лес, древесина, материал, materies. Она может указывать в том числе на то, что порядок культуры вырастает из элементарной силы, имеет в своей основе неразделённое, ещё-не-помысленное, то, что может быть обустроено или стремится к порядку. Это и есть Лес как питающая почва, земля, основа добродетельной жизни и благосостояния, которая может в то же время послужить и укрытием для разбойников, и партизанской базой.
О том, что за Уходом в Лес скрывается отнюдь не идиллия, немецкая литература со времен романтизма знает очень хорошо. Ханс Гримм — пожалуй, самый популярный немецкий литератор межвоенной поры — в романе «Народ без пространства» (1926) писал о Лесе как экзистенциальной основе людей:
Лес служит местом убежища, дающим защиту и кров. Крестьянам, которые не способны кормить себя и свои семьи только возделыванием земли, или не овладели профессией мельника, кузнеца, проповедника, врача или учителя, лес всегда может дать работу. Даже когда в долине не найти другой работы… крестьянин всегда может стать угольщиком, рудокопом, лесником.
Лесной путник, персонаж из повести австрийского классика Адальберта Штифтера «Лесной путник» (Der Waldgänger, 1847), тоже не автохтон, не житель Леса. Он лишь обходит Лес, ходя по кругу. Его образ жизни — работа ученого, ведущего наблюдения. Примерно тем же занимаются и братья, живущие за монастырскими стенами Альта Планы из повести Юнгера 1939 года «На мраморных утесах». Лес для них — источник опасности и источник открытий. Исконные жители леса связаны с природой, они трудятся в лесу. Жизнь же «лесного путника» хоть и уступает им в «изначальности», однако является предпосылкой понимания более высокого уровня. Лес учит различать и разделять («unterscheiden»).
Изначальное отсутствие человеческих границ в Лесу впервые делает возможной настоящую собственность. Близкую мысль развивает в те же годы и Фридрих Георг Юнгер. В 1950 году он опубликовал в сборнике к 60-летию Хайдеггера эссе «Пустошь» (Wildnis). В «пустоши» (Wildnis) всё хранится в своём собственном. Поэтому настоящий хозяин пустоши или леса — это не собственник-хозяин, а странник, обходящий и тем самым оберегающий свои владения. Пустошь понимается как невозделанная Мать-Земля, без которой не было бы культуры. Вся история с её правом, законами и нравами происходит из этого священного истока. Об этом Ф. Г. Юнгер напоминает словами поэта Фридриха Гёльдерлина, которого оба брата ценили очень высоко:
Vor allem, daß man schone
Der Wildnis, göttlichgebaut
Im reinen Gesetze, woher
Es haben die Kinder
Des Gotts…
Так, «богоустроенная» пустошь скрывает в себе чистый закон, память о возможности изменения и преображения, единственную строгую меру всякого человеческого устроения на Земле. Однако человек не щадит пустошь и опустошает её.
На всем протяжении «Ухода в Лес» Юнгер обращается к противопоставлению двух образов — Корабля и Леса.
Лес служит местом убежища, дающим защиту и кров. Крестьянам, которые не способны кормить себя и свои семьи только возделыванием земли, или не овладели профессией мельника, кузнеца, проповедника, врача или учителя, лес всегда может дать работу. Даже когда в долине не найти другой работы… крестьянин всегда может стать угольщиком, рудокопом, лесником.
Здесь, как и в других местах книги, Корабль относится к экономическому и политическому измерению жизни. Корабль воплощает собой неумолимое движение вперед, «от одной катастрофы к другой». Корабль — это не только старая метафора государства. Греки называли главу государства «кормчим»; известен и другой образ — образ «пьяного корабля», который «без руля и без ветрил» плывет навстречу рифам или скалам.
Море и Лес образуют противоположность. Юнгер говорит о ней, может быть, не совсем удачно, в метафизических категориях, как о противоположности между «временным» и «вневременным бытием». В феноменологической же перспективе море оказывается антитопологичным, чистой у-топией. Море обнаруживает себя как водная гладь и горизонт, безразмерное пространство, закругляющийся край Земли. Лес же, напротив, глубоко топологичен. Он раскрывается (если раскрывается) как «неметрическое пространство» (В. В. Бибихин), место рождения топоса и номоса.
В 1950 году увидела свет ещё одна знаковая для немецкой и европейской послевоенной культуры книга — «Номос Земли», написанная юристом и политическим мыслителем Карлом Шмиттом, другом и корреспондентом семьи Э. Юнгера. Книга наполнена размышлениями о конце Вестфальской системы международных отношений и вместе с тем предостерегает об опасности глобальной унификации. Шмитт берёт на себя роль «последнего сознательного представителя» jus publicum Europaeum, права континентальных европейских народов, которое предполагало войны ограниченного масштаба между суверенными государствами и сражения регулярных армий по типу дуэли. Англо-американский империализм, прикрываясь новой универсалистской фразеологией, разрушил классическое международное право, исходившее из чёткого разделения Земли и Моря, стёр линии демаркации и ввёл дискриминирующее понятие врага, основанное на понятии «справедливой войны». Европоцентричный номос (связь места, закона и порядка) позволял сохранять мир между сильными государствами и минимизировать жестокость в межгосударственных отношениях. Распад же jus publicum Europaeum и асимметричный мировой порядок с его попытками уничтожить войну во всём мире таит в себе зародыш «всемирной гражданской войны». Шмитт считал, что утрата порядка, основанного на национальном государстве, без чёткой организации «больших пространств» может привести только к «размытым пространствам» и «псевдо-фронтам», когда Америка будет стремиться играть роль «настоящей Европы» и «хранительницы закона и свободы». В новом мировом порядке чрезвычайное положение становится перманентным и приобретает международный масштаб. Нарушается связь между порядком и местом (Ordnung und Ortung), единственный гарант смысла в мировой политике; номос замещается нигилизмом.
Юнгер не касается прямо проблем геополитики, а как бы берет их в скобки. Он считает, что Уход в Лес — это ключевая проблема не только для немца, но и для русского. «Как большевик он находится на Корабле, как русский — в Лесу». Было бы слишком поверхностным считать, что это сближение русских и немцев объясняется неким общим опытом выживания в «тоталитарных системах». Тем более не стоит приписывать автору задним числом дилемму: кто хуже, Сталин или Гитлер? Речь здесь скорее идёт о том, чтобы через символическое противопоставление Корабля и Леса выйти за пределы текущего прагматического контекста, актуализировать старую, архаичную топику и нащупать в окказиональной ситуации стратегию мысли и поведения в ширящейся пустыне глобального тоталитарного модерна. По-настоящему важным оказывается только одно: найти способ освободиться от липкого, съедающего души страха, который в конце концов должен победить Лесной путник.
Сёрен Кьеркегор предупреждал: «Кто обручится с духом эпохи, скоро станет вдовцом». Страх вызывается все возрастающей зависимостью человека модерна от технического ускорения, анонимных сетей, практик жёсткого регулирования, непрогнозируемых сценариев будущего. Самой распространённой реакцией может оказаться снятие с себя ответственности, отказ от внутренней автономии, впадение в тот самый «comfortably numb», за которым следует безвольное сложение оружия.
Весь текст эссе «Уход в Лес» может прочитываться как внимательное исследование старого вопроса: как возможны различные формы личного или же коллективного отклонения — если брать текущий сценарий, внутри разнообразных сетей, под наблюдением камер, среди ужесточающихся норм и регламентов? Вечно актуальный вопрос о свободе отдельного человека вместе с его правом на создание групп, то есть правом на добровольное обособление, так называемую сецессию. Единичный человек, сам по себе или вместе с такими же, как он, создает серьезные помехи любой системе, причём эта помеха тем сильнее, чем больше система делает ставку на организацию и техническое оснащение.
Юнгер практически не различает между демократическими и авторитарными формами государства, и делает это не по незнанию или небрежности, а намеренно, дабы по-платоновски намекнуть на то, что пресловутая «свобода личности» либеральных демократий всё же есть не более как право любить свои пороки не меньше, а то и больше, чем добродетели. Так же промахивается мимо цели и упрёк (высказанный, например, бывшим соратником, национал-большевистским публицистом Эрнстом Никишем, который после войны остался в ГДР), будто бы Эрнст Юнгер испугался политики и ретировался в «постисторию». На самом деле Юнгер очень хорошо видит и демонстрирует, как решение отдельного, единичного человека, направленное против системы, ставит под угрозу функционирование самой системы и в этом смысле является подлинно политическим в древнегреческом смысле этого слова. Сократ, выступая на суде с защитной речью, делал для афинских граждан наглядным своё положение «одиночки» (idiotēs) с помощью образа слепня, кусающего благородного, но тучного коня. Юнгер говорит также из ситуации кризиса (krisis по-гречески означает суд), но прибегает к более суровому, нордическому примеру, рожденному, впрочем, тоже на земле прямой демократии веча или ting’а, примеру мужчин, которые с оружием в руках встают на защиту своей свободы, отстаивают священное право неприкосновенности жилища. Этот же одиночка уже в роли нон-комбатанта вливается в сопротивление, чтобы в иррегулярной войне нанести поражение противнику, оккупировавшему его территорию, его землю.
Черты Лесного странника позднее отразятся в концепции «партизана» Карла Шмитта, который будет подчеркивать «теллурический характер» его политической вовлеченности, а сам Юнгер интегрирует их в фигуру Анарха. В отличие от анархиста, активно и открыто протестующего против государственных порядков, Анарх — так объясняет слово сам автор — уклоняется от внешнего обнаружения своей позиции и практикует радикальную форму внутренней свободы. Поэтому допустимо рассматривать Уход в Лес как своего рода меморандум партизана или Анарха. Это не инструкция, что лежит в специальном ящичке на случай наступления emergency state, а именно уникальный жизненный опыт одиночки, зафиксированный в слове для тех, кто, подобно Мануэлю Венатору из «Эвмесвиля», учится искусству ускользания из сетей Левиафана и одновременно, как сторонник и защитник своего удела (таково настоящее значение романского корня в словах partisan, partigiano) обустраивает неподконтрольное тому пространство, то есть «умножает хитрость». Юнгер несомненно находится в традиции эстетического воспитания, восходящей ещё к Фридриху Шиллеру. И в этом смысле цель эссе — вызвать изменения во внутреннем существе человека, не давая никаких конкретных рекомендаций.
Надеяться на успех в таком опасном предприятии как Уход в Лес можно лишь в том случае, если удастся опереться на «три великие силы — силы искусства, философии и теологии». Лес как воображаемый мифический топос обнаруживается везде — в лесах и пустынях, в больших городах, в снах и сновидениях; он является местом Великого перехода и знамением вечной жизни в образе «животворящего древа» Креста Господня. Современные консервативные интеллектуалы (например, дрезденский философ Ульрих Фрёшле) справедливо считают Уход в Лес вовсе не красиво обставленной резиньяцией, а именно серьёзным обоснованием некой элитарной модели существования. Её можно называть по-разному: «малое стадо», «сообщество одиночек», «духовный орден». Его члены узнают друг друга по тайному знаку «Y».
Как этого достичь, — пишет Юнгер в 30-й главке, — остаётся главным вопросом сопротивления, которое не всегда обязательно должно быть открытым. Требование открытого сопротивления относится к любимым теориям людей, сопротивлению непричастных, однако, на практике это равнозначно тому, как если бы кто-то вложил тирану в руку список последних оставшихся людей.
Идея духовного братства в форме ордена занимала консервативные умы Германии на протяжении нескольких десятилетий XX века, включая два послевоенные десятилетия. Например, младший товарищ и поклонник Юнгера Герхард Небель ретроспективно писал об идее ордена в связи с Кругом Георге, образовавшемся вокруг харизматичного немецкого поэта ещё накануне Первой мировой войны:
Он [Георге] не только имел опыт этого ушедшего мира и этой действительности, но и попытался создать такой союз в нашу недружественную к союзам эпоху, возвести своего рода бастион против цивилизации. Орден — это не полис, в котором рождаются, а сообщество, в которое вступает единичный человек по своей воле…. В античную эпоху примерами таких сообществ были союз пифагорейцев и Академия Платона, а в средневековье — рыцарские ордена, из которых Георге особенно почитал тамплиеров. Это культовые союзы, объединения во имя Бога, предъявляющие высокие требования к этосу своих членов… Союз пронизан субстанциальными связями, в отличие от демократических лиг или партий, заинтересованных главным образом в продвижении мнений или распределении доходов… Союз как принесение удовольствий в жертву, аскеза, борьба, примирение с болью, презрение к безразличной толпе, союз как образец, а в критических ситуациях, быть может, и спасение.
«Примирение с болью…». В литературном романтизме и в европейском дендизме речь о боли заходит в связи с вниманием к собственной индивидуальности, к уникальной позиции мыслящего и одинокого «я». Эрнст Юнгер, переживший увлечение дендизмом и критику этого течения изнутри, неслучайно выбирает последней фигурой в своем творчестве фигуру Ушедшего в Лес (после Неизвестного Солдата и Рабочего). В такой перспективе «Уход в Лес» — это еще и важная веха на творческом пути Эрнста Юнгера, который — в отсутствие эмигрировавшего из страны Томаса Манна — на целое десятилетие после Второй мировой войны оказался чуть ли не самым главным немецким писателем из живущих на немецкой земле. В самой середине жизненного пути, в начале, пожалуй, самого тяжелого десятилетия, когда к гибели сына добавились запрет на публикации в английской зоне оккупации и болезнь жены, он продолжает работать над новым стилем. Он знает: такого рода стиль можно обрести лишь двигаясь вперед, потому что «последний сухостой романтизма уничтожило пламя» и равным образом «стала очевидной безотрадная пустота классицизма».
В небольшом эссе «О боли» (1934) Юнгер поставил диагноз технической эпохе как эпохе совершенного нигилизма. Почему после прославления «стальных гроз» и «тотальной мобилизации», автор решил написать о боли? Вероятно потому, что он сумел разглядеть в ней «один из тех ключей, которыми размыкают не только самое сокровенное, но и сам мир». Когда меняется основное настроение эпохи, меняется и отношение человека к боли. Эпоха «масс и машин» грозит планете масштабной дегуманизацией, опредмечиванием всего и вся, притязаниями государств на тотальное господство. А это в свою очередь означает, что атаки боли нацелены на индивидуальность, на уникальную позицию мыслящего одиночки, единичного человека. Противостоять этим атакам человек может лишь в той мере, в какой он «способен изъять себя из самого себя», порвать с естественностью, отделить духовное от плотского. При всей своей приверженности дендизму Барбе д’Оревильи и Гюисманса с его подлинно консервативными установками Юнгер прекрасно понимает, что тот — в искусстве ли, политике или религии — «выдает вексель на уже несуществующие активы». Утверждать в мысли и поступках собственное достоинство, поддерживать пыл сердца, сохранять суверенность и непринужденность — всё, что для Юнгера выражалось французским словом désinvolture — внутри романтических пейзажей уже невозможно. И хотя Юнгер называет это новое место свободы Лесом, он допускает, что Лес может находиться повсюду — как в пустоши, так и в городах, как в подполье, так и в государственных конторах, как в родном отечестве, так и в любой другой стране, где люди заняты сопротивлением. Ушедший в Лес, одиночка обретает в Лесу неподверженную разрушительной работе времени субстанцию, которая становится для него источником свободы, необходимой для того, чтобы сказать «нет».
Стало быть, Ушедший в Лес — это третья мифическая фигура, которая приходит на смену Неизвестному Солдату и Рабочему, человеческому типу, без остатка встроенному в мир техники, организации и управления. Он получит имя Анарха в романе «Эвмесвиль» (1977). В постисторическом и постгуманистическом состоянии позднего модерна, где гарантии либеральных свобод прекрасно сочетаются с «паноптическими» техниками управления, нацеленными на тотальное дисциплинирование, контроль и надзор за публичной и частной жизнью граждан, Анарх хранит знание о трех спасительных силах, создающих неподконтрольное Левиафану пространство. Первая сила — это любое учение о трансценденции, вторая — любовь, третья — мусическая жизнь (или просто творчество). Вопрос о том, можно ли вообще противостоять планетарному «мировому государству», могуществу масс кажется неразрешимым лишь тем, кто подвержен сильному оптическому обману прогресса. Иллюзия неуклонно возрастающего комфорта и безболезненного существования приводит к тому, что подавляющее большинство людей уже не желает свободы, вернее, начинает даже бояться её. Анарха же, как и Ушедшего в Лес, отличает нестерпимая жажда свободы.
«Уход в Лес, — учит Юнгер, — это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает нечто большее». Ушедший в Лес способен противостоять тиранической власти с оружием в руках, защищая свою жизнь и жизнь своих ближних. Но это не главное. Главное — он способен преодолевать боль и страх смерти, вплотную соприкасаясь с ней. Последовавший этим путем открывает изобилие «вневременного бытия», место тишины и покоя. Встречаясь со смертью, единичный человек освобождается от случайно-исторической индивидуальности и встречается с «человеком вообще», разрывает каузальные связи титанического мира и заглядывает в «вневременное». Помочь человеку вернуться к себе может не философ, богослов или священник, а только поэт. В этом смысле Эрнст Юнгер все же остается верен большой романтической традиции, идущей от Гёльдерлина к Ницше, Георге и Хайдеггеру, традиции, выросшей из таинственной связи немца с Элладой и христианским платонизмом. Она создает грандиозное повествование об отношении Бога, мира и человека в его истории и отводит искусству и, прежде всего, поэзии спасительную роль в борьбе против «титанов», под какой бы маской они ни являлись.
Александр Михайловский