Беседа Александра Иванова и Льва Данилкина
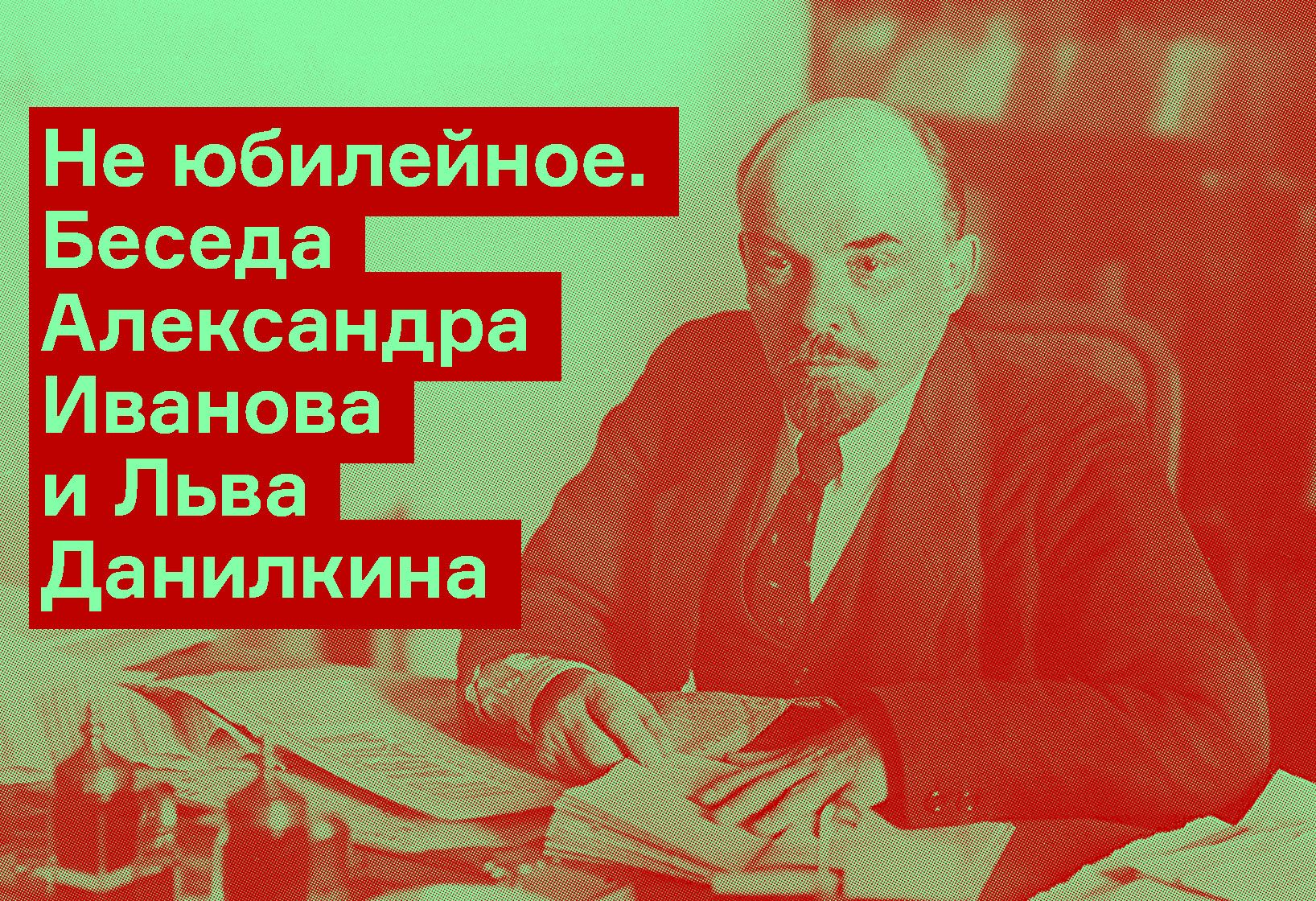
В день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина публикуем выдержки из беседы о революции и Ленине главного редактора издательства Александра Иванова и писателя Льва Данилкина, которая была опубликована в журнале «Искусство кино» в 2017 году.
Лев Данилкин: Если мы сейчас выйдем на улицы и спросим, кто такой «Ленин», то, думаю, одним из самых частых ответов будет слово «гриб». Потому что все запомнили эту курехинскую шутку, которая должна была смешить полчаса, но запомнилась на тридцать лет, и это, конечно, неслучайно.
Александр Иванов: Не такая уж бессмысленная шутка.
Лев Данилкин: Да. Почему она запомнилась? Потому что историческая картина, которую стали формировать в перестройку, выглядела так: вот была какая-то «нормальная» русская жизнь, русская история – и вдруг на ней выросло нечто постороннее, внешнее, нелепое, какой-то нарост, вот этот самый гриб. «Ленин — гриб» — не просто дзенский хлопок такой, отрезвление абсурдом, нет, это кое-что побольше. Это означает «Ленин-чужой», не наш, не русский, чужеродный, Ленин-инопланетянин, Ленин — чертик из табакерки. «Мы» и в мыслях не хотели делать революцию, а «он» выскочил и сделал. Но на самом деле Ленин конечно НЕ гриб, и тут как раз можно вспомнить замечательноое соображение Маркса о том, что философы не вырастают, как грибы из земли, они продукт своего времени и своего народа, и самые ценные соки народа и эпохи как раз концентрируются в философских идеях. И тот же мировой дух, который строит железные дороги руками рабочих, он же в мозгу, в интеллекте философов строит философские системы. Вот в чем разница между случайным грибом и прорастанием мирового духа в мозгу философа. Гриб запомнился потому, что это хорошая метафора всего дискурса о случайности Ленина, о том, что революция, Октябрь были продуктом заговорщиков, а не продуктом движения масс.
Катерина Вахрамцева: Удивительно, что по всей Европе были выставки к столетию революции, а у нас они какие-то местечковые…
Александр Иванов: Но главное – насколько серьезной эта выставка оказалась, насколько не поверхностной. Она состояла из очень серьезных экспозиционных решений, например таких, когда рядом с залом, где впервые на Западе был в таком объеме представлен Петров-Водкин, находилась реконструкция сделанного Эль Лисицким дизайна комнаты в знаменитом Доме Наркомфина. Или огромный овальный зал, где в темноте, освещенный прожекторами, висел «Летатлин». Редкие образцы потрясающего революционного фарфора и так далее. Этот колоссальный культурный всплеск был всемирно важен, и это отдельная тема для разговора. Но миновать ее совершенно невозможно, потому рядом, под боком мы имеем, на мой взгляд, очень плохую экспозицию «советского» периода в современной Третьяковке, которая, надеюсь, когда-нибудь будет изменена.
У нас довольно много долгов перед революцией. Интеллектуальных и всяких прочих. И пока мы с ними не разберемся, нам очень трудно куда-то двигаться.
Катерина Вахрамцева: Каким образом в масштабе страны эти долги отдавать?
Александр Иванов: Нет, не страны, надо спокойно каждому решить эту проблему самому… Все эти коллективные упования, искупления, покаяния – это все, мне кажется, невозможно. Это должна быть индивидуальная практика личного понимания истории своей семьи. Например, я один из представителей той семейной традиции, где сочетались и коммунисты, и антикоммунисты. Я думаю, гражданская война в этом смысле – это ведь часть семейной истории многих людей. Она не проходила между «хорошими и плохими людьми». Она была ужаснее. Например, успех выставки Серова для меня во многом связан с историей, сформированной как альтернатива протестам на Болотной площади. Люди вышли на Болотную и впервые увидели вокруг так много «хороших, чистых лиц», как они сами это позже описывали. Другие люди пришли на выставку Серова и увидели не на Болотной площади, а на картинах (и среди смотрящих на них посетителей выставки тоже) так много приятных, открытых русских лиц. Купцов, крестьян, актрис, писателей, художников, царей и великих князей – одним словом, лица людей, составлявших русское общество в момент его расцвета. И это оказалось очень важно для многих людей – просто увидеть огромное количество позитивных лиц, составлявших Российскую империю, не обязательно русских по этническому критерию. Чего нам, мне кажется, не хватает, в отношении революции и настоящего времени – так это просто сказать самим себе «да», не предполагая за этим «да» никакой негативной идентичности. Для того чтобы себя понимать, нам не нужна негативная идентичность типа «я антикоммунист» или «я анти… кто-то».
Лев Данилкин: Мне не кажется, что люди могут договориться друг с другом. Как? Просто вместе почитаем собрание сочинений Ленина и приказов Колчака — и забудем, кого там у нас убили в этих войнах? Это может только единственным, естественным путем — через забвение, через сто лет, как во Франции это произошло с великой французской революцией, там сейчас уже все более-менее воспринимают это как событие национального масштаба, там никто не идентифицирует уже себя в рамках противопоставления монархист — якобинец. Здесь не так. Здесь это в памяти. Поэтому то, что сейчас навязывается сверху, точка зрения, что «у каждого своя правда, и люди сами могут договориться, читая опубликованные документы» — на самом деле, это не так <…>.
Александр Иванов: Ленин – невероятно противоречивая фигура. И то, что нам достался такой «отец-основатель», конечно, меняет всю окраску нашей истории ХХ века. Многие его индивидуальные биографические черты, конечно, отложились в характере ряда политических институтов. Я бы не давал ему однозначной оценки. Эта неоднозначность оценки есть в книге Льва, хотя видно, что Лев симпатизирует Ленину.|
Лев Данилкин: Это не должно быть видно.
Александр Иванов. Но видно. И это понятно: он с ним прообщался почти десять лет. В главах про эмиграцию понятно, что Ленин – типичный русский мальчик, – человек предельного ресентимента, злопамятности, склочности. Это просто персональные черты.
Лев Данилкин: Но и «ресентимент» не было словом, которое определяет его поведение. Оно было предельно конструктивным.
Александр Иванов: Наверное. Но я думаю, что идея о том, что мир можно лепить как пластилин, для политика ленинского типа очень привлекательна. Лепить из социальной материи то, что Зигфрид Кракауэр называл «орнаментом массы».
Лев Данилкин: У Ленина нет такого. У него сказано, что в момент кризиса, когда кризис уже произошел, мир можно лепить, будто пластилин. Когда верхи уже не могут управлять по-старому, а низы больше не могут жить по-старому. Вот только в этот момент, на самом деле, вы можете лепить из масс что-то, согласно своей модели. До того вы можете заниматься какой-то маленькой заговорщицкой организацией, каким-то политическим, условно говоря, авангардом, который в момент кризиса как раз и будет субъектом лепки. А не до того <…>.
Александр Иванов: Мы, кстати, не обсудили еще одну важную тему в связи с Лениным.
Катерина Вахрамцева: Мы много чего не успели обсудить.
Александр Иванов: Тему, связанную с этосом и метафизикой революции. То, что зарядом революции была очень древняя русская тема соотношения свободы и справедливости. Мне очень понравилась одна цитата, на которую я достаточно недавно натолкнулся. Это какое-то интервью Хрущева, где западный корреспондент спрашивает его о том, правда ли, что Советский Союз всячески вмешивается в дела западных стран и поддерживает революционные антикапиталистические движения. На что Хрущев отвечает, что это-де полная ерунда, но что там, где рабочие – в любой стране мира: в Канаде, в Австралии, в Америке или Аргентине, — борются за справедливость, там, конечно, есть «рука Москвы». Это, безусловно, мощнейшая, во многом недооцениваемая сегодня позиция Советского Союза как мирового гаранта справедливости.
Лев Данилкин: Вот это должно быть в суждении о революции. Это была борьба не за прибавку к зарплате, а за справедливость.
Александр Иванов: Очень интересно, что, на мой взгляд, самый профессиональный, самый талантливый из музеев современной истории России — «Ельцин-центр» — свою главную экспозицию строит как раз на теме свободы, а не справедливости. Как известно, один из первых, если вообще не первый русский литературный текст – это «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, XI век. Там вводится понятие свободы как благодати. Что, на самом деле, довольно известная в христианстве вещь. Но поскольку это первый русский литературно-философский текст, он играет очень важную, основополагающую роль для всей русской традиции – литературной и духовной. Что такое свобода, если это благодать? Это, во-первых, незаслуженный дар. Во-вторых, нечто, сущностно связанное с душой человеческой, а не с социальной, не с публичной сферой. И это некая абсолютно божественная способность быть восприемником божественного дара. И в этом смысле свобода у митрополита Иллариона всегда противостоит любому закону. Свобода – это не результат исполнения правильного закона или некий эпифеномен правильного закона, как полагала европейская традиция, начиная с Аристотеля, а в Новое время – с Канта. Свобода – это то, что никогда ни с каким законом не совпадает. И это, конечно, очень русское понимание свободы. Традиция понимания свободы, которая есть в России, которая есть у протопопа Аввакума, у героев Достоевского, у многих русских мыслителей XIX века, да и ХХ тоже, ближе всего к идеям митрополита Иллариона, нежели к идеям Канта. Мысль Канта сводится к тому, что если есть хорошие законы, то там, внутри пространства, задаваемого этими законами, и располагается свобода. Конечно, эта идея так и не закрепилась на местной почве. Революция не сильно поменяла вектор понимания свободы, заданный «Словом о законе и благодати» митрополита Иллариона. И в этом еще одна – пожалуй, самая фундаментальная – неразрешимость и незавершенность русской Революции.

