Мой пропавший город
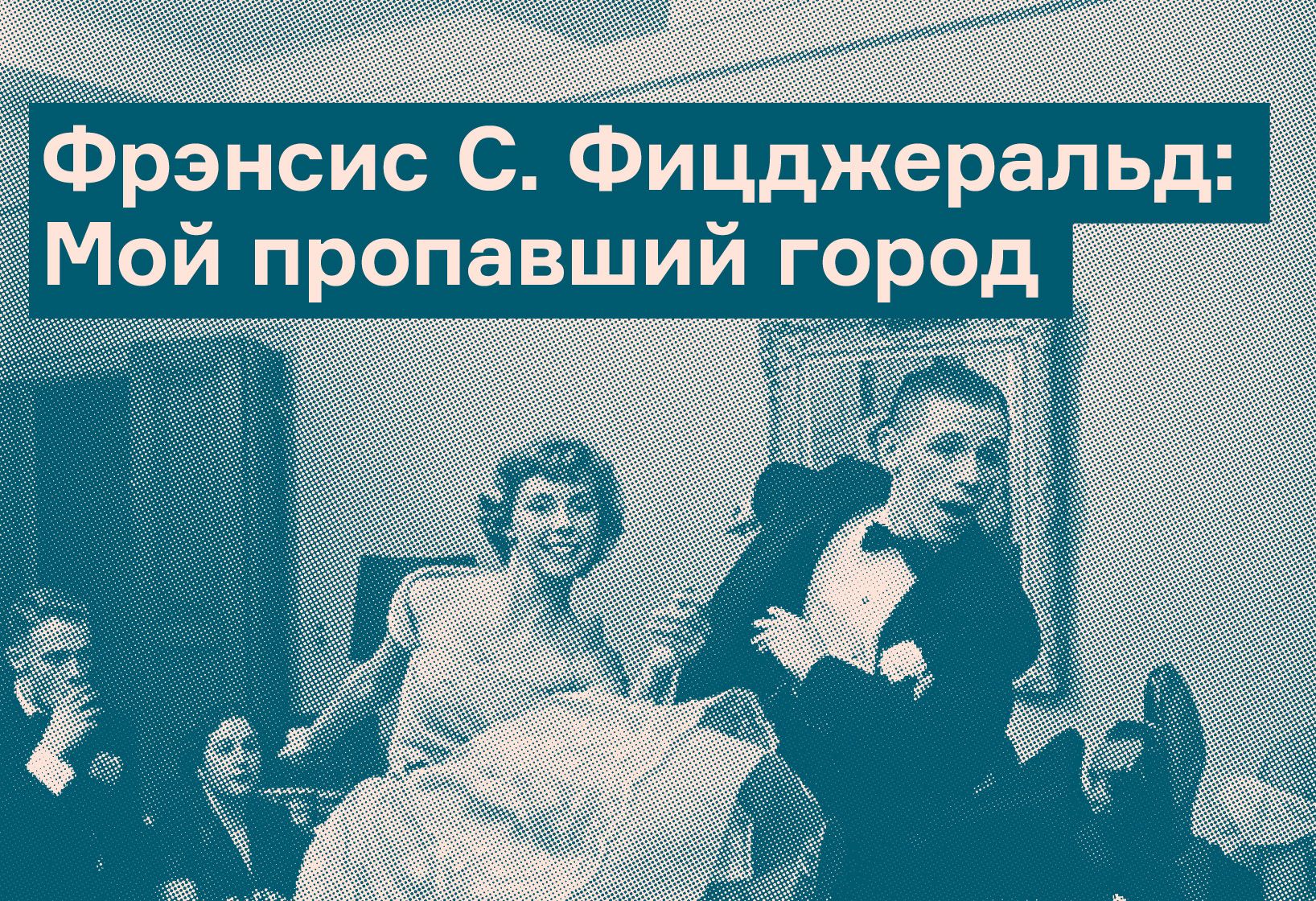
Публикуем эссе-посвящение любимому городу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, вошедшее в сборник «Подшофе». Великий американский писатель о Нью-Йорке 1920-х гг.
Сначала был паром, неслышно отходивший от побережья Нью-Джерси на рассвете, — мгновение, кристаллизовавшееся в мой первый символ Нью-Йорка. Пять лет спустя, когда мне было пятнадцать, я прямо после уроков ездил в город посмотреть на Ину Клер в «Квакерше» и Гертруду Брайан в «Грустном мальчике».
Пребывая в замешательстве от своей безнадежной и печальной любви к обеим, я никак не мог сделать выбор между ними — поэтому в моих глазах они слились воедино, превратившись в одно очаровательное существо, в любимую девушку. Она стала для меня вторым символом Нью-Йорка. Паром означал триумф, девушка — романтические отношения. Со временем мне предстояло пережить и то и другое, но был и третий символ, который я где-то потерял, потерял безвозвратно.
Этот символ я обнаружил хмурым осенним днем, спустя еще пять лет.
— О, Банни! — вскричал я. — Банни!
Он меня не слышал — мое такси потеряло его и, проехав полквартала, снова нашло. На тротуаре появились черные капли дождя, и я увидел, как он торопливо пробирается сквозь толпу. Поверх своего неизменного коричневого костюма он надел желтовато-коричневый плащ; я был потрясен, заметив, что он стал ходить с тросточкой.
— Банни! — снова крикнул я и осекся. Я еще учился на последнем курсе в Принстоне, а он уже стал жителем Нью-Йорка. И вот, выйдя на дневную прогулку, он спешил вперед со своей тростью под усиливающимся дождем, и поскольку я должен был встретиться с ним только через час, вряд ли стоило навязываться ему заранее и вмешиваться в его личную жизнь. Однако такси не отставало от него, и, продолжая наблюдать, я всё больше поражался: это был уже не робкий маленький школяр с Холдер-Корта — он уверенно шагал вперед, погруженный в свои мысли, и смотрел прямо перед собой; было очевидно, что новая обстановка подходит ему как нельзя лучше. Я знал, что у него есть квартира, где, освободившись наконец от всех университетских табу, он живет с тремя другими мужчинами, однако не только эта свобода придавала ему такую уверенность, было и нечто другое, совершенно новое, и я понял, что это — дух большого города.
Раньше я видел лишь тот Нью-Йорк, что открыт для всеобщего обозрения — я был Диком Уиттингтоном из деревни, глазевшим на дрессированных медведей, или юнцом из южной провинции, плененным парижскими бульварами. Я приехал просто полюбоваться зрелищем, хотя проектировщики здания «Вулворт» и рекламы «Гонки колесниц», продюсеры музыкальных комедий и проблемных спектаклей и мечтать не могли бы о более благодарном зрителе, ведь к блеску и роскоши Нью-Йорка я относился даже не так критически, как сам город. И все же, получая по университетской почте фактически анонимные приглашения на балы дебютанток, я никогда их не принимал: быть может, я просто опасался, что действительность не будет соответствовать моему представлению о великолепии Нью-Йорка. К тому же та, кого я называл «моей девушкой», родилась и выросла на Среднем западе, который по этой причине был для меня самым теплым местом на свете, а Нью-Йорк я всегда считал циничным и жестоким — всегда, кроме того вечера, когда она оказалась в городе проездом, и благодаря ей стало светлее в мрачном баре на крыше отеля «Ритц».
Однако вскоре я потерял ее окончательно, и мне захотелось пожить в мире мужчин, а именно в таком свете и представлялся мне Нью-Йорк, когда я смотрел, как Банни уверенно шагает по улице. Неделей раньше монсеньер Фэй повел меня в «Лафайет», где нам предложили блестящий ассортимент еды, именуемой hors d’oeuvre, и запивали мы ее превосходным бордо, придававшим нам уверенности так же, как трость — походке Банни, но ведь это было в ресторане, а потом нам предстояло сесть в машину и возвращаться через мост в глубинку. Нью-Йорк студенческой разгульной жизни, город таких заведений, как «Бастаноби», «Шенли», «У Джека», стал невыносимым, и хотя я продолжал туда ездить, зачастую, увы, в пьяном угаре, каждая такая поездка казалась мне изменой неким незыблемым идеалам. Мое участие во всем этом было связано скорее с похотливостью, чем с распущенностью, и приятных воспоминаний о загулах тех времен почти не осталось; как однажды заметил Эрнест Хемингуэй, кабаре нужны только для того, чтобы неженатые мужчины могли знакомиться со сговорчивыми женщинами. Все прочее — пустая трата времени в духоте.




А вот тем вечером, в квартире Банни, жизнь казалась веселой и безмятежной, это была квинтэссенция всего, что я полюбил в Принстоне. К негромкому звучанию гобоя примешивался шум городской улицы, с трудом проникавший в комнату сквозь огромные баррикады из книг; диссонансом звучал лишь хруст бумаги, когда один из жильцов вскрывал конверты с приглашениями. Так я открыл для себя третий символ Нью-Йорка, после чего начал прицениваться к подобным квартирам и подыскивать знакомых, с которыми мог бы ужиться.
Но не тут-то было: в течение следующих двух лет моя судьба зависела от меня в такой же степени, в какой от заключенного зависит покрой его тюремной робы. В 1919 году, когда я вернулся в Нью-Йорк, я уже так запутался в жизненных неурядицах, что о периоде веселого монашества на Вашингтон-сквер не приходилось и мечтать. Первым делом нужно было заработать в рекламном агентстве достаточно денег, чтобы снять тесную квартирку на двоих в Бронксе. Девушка, о которой идет речь, раньше никогда не бывала в Нью-Йорке, но ей хватило ума, чтобы не прийти в восторг от подобной перспективы. И за четыре месяца, проведенных в мареве тревоги и уныния, я набрался больше впечатлений, чем за все предыдущие годы моей жизни.
Нью-Йорк сверкал всеми цветами радуги, как в первый день творения. По Пятой авеню маршировали вернувшиеся на родину войска, и навстречу им, на север и восток, инстинктивно устремились девушки — наша страна была величайшей в мире, и настроение у всех было праздничное. Слонялся ли я субботним днем, как призрак, по «Красному залу» отеля «Плаза», ходил ли на приемы в пышных садах с бассейнами в районе Восточных шестидесятых улиц, пьянствовал ли со студентами Принстона в баре «Билтмор», — я ни на минуту не забывал о том, что у меня есть другая жизнь: унылая комнатенка в Бронксе, клочок пространства в вагоне подземки, каждодневное напряженное ожидание нового письма из Алабамы — придет ли и что в нем будет написано? — мои поношенные костюмы, моя бедность — и любовь. В то время как мои друзья вступали в жизнь, становясь добропорядочными людьми, я с трудом удерживал свою утлую лодчонку на стремнине. Золотая молодежь, окружавшая юную Констанс Беннетт в «Клубе двадцати», однокашники, шумно отмечавшие нашу первую послевоенную встречу в клубе «Йель-Принстон», атмосфера в домах миллионеров, где в свое время я часто бывал, — все это не имело для меня большого значения, хотя я признавал, что обстановка в подобных местах производит глубокое впечатление, и сожалел о том, что предан другой романтической идее. Я не видел никакой разницы между самым веселым застольем и самым скучным кабаре; оттуда я спешил к себе домой на Клермонт-авеню — там был мой дом, потому что за дверью меня могло ждать письмо. Одна за другой угасали мои возвышенные мечты о Нью-Йорке. А после встречи с обрюзгшей домовладелицей в Гринвич-Виллидж поблекло и сохранившееся в памяти очарование квартиры, где жил Банни. Она сказала, что я могу приводить в комнату девушек, и мысль об этом повергла меня в смятение: с какой это стати мне понадобится приводить к себе в комнату девушек? — девушка у меня есть. Я бродил по окрестностям 127-й улицы, и меня возмущала тамошняя суматошная жизнь; а иногда я покупал в аптеке «Грейз» билеты на дешевые места в театр и пытался забыться на несколько часов, отдавшись давнему страстному увлечению бродвейскими постановками. Я был неудачником — средней руки рекламным агентом, не способным начать карьеру писателя. Испытывая отвращение к этому городу, я на последние гроши напивался почти до бесчувствия и тащился домой…
…Непостижимый город. То, что произошло в результате, было типичной историей успеха, одной из многочисленных подобных историй, происходивших в те яркие годы на каждом шагу, но эта играет важную роль в моем личном фильме о Нью-Йорке. Полгода спустя, когда я вернулся, передо мной уже были открыты двери всех редакций и издательств, антрепренеры просили пьесы, кинопродюсеры стремились заполучить материал для экранизации. К моему величайшему удивлению, Нью-Йорк взял меня под свое крыло, причем не как уроженца Среднего Запада и даже не как стороннего наблюдателя, а в качестве архетипа того, что требовалось городу. Это утверждение будет нелегко понять без краткого рассказа о том, что представлял собой метрополис в 1920 году.
В городе уже высились те же белые здания, что и сегодня, уже началась эпоха бума с ее лихорадочной деятельностью, но при этом Нью-Йорк по-прежнему был почти бессловесным. Лучше других угадывал настроения простых людей и масс обозреватель Ф. П. А., но при этом он осторожничал, словно предпочитая смотреть на всё происходящее из окна. Еще не слились воедино светское общество и американское искусство — Эллен Маккей еще не вышла за Ирвинга Берлина. В двадцатом году жителю Нью-Йорка показались бы бессмысленными многие работы Питера Арно, и если бы не колонка Ф. П. А., читателям негде было бы вести свободную дискуссию о жизни города.
Потом многие слои нью-йоркского общества ненадолго объединила идея «молодого поколения». Люди лет пятидесяти могли делать вид, будто по-прежнему верят в существование неких «четырех сотен», а Максвелл Боденхайм мог сколько угодно делать вид, будто верит в существование богемы, достойной своих красок и карандашей, — но уже начали объединяться группы способных, веселых, энергичных людей, и впервые появилось общество несколько более живое, чем то, что собиралось за массивным столом на званых обедах у Эмили Прайс Пост. Если это общество устраивало прием, там непременно набирались ума-разума состоятельные обитатели Парк-авеню, и образованный европеец впервые был вправе ожидать, что поездка в Нью-Йорк будет представлять собой нечто более приятное, чем экспедиция золотоискателей в глубь австралийского буша, застроенного высокими зданиями.
Совсем ненадолго я, знавший о Нью-Йорке меньше, чем любой репортер с полугодовым стажем, а о светском обществе города — меньше, чем любой коридорный, прислуживающий на холостяцкой вечеринке в «Ритце», оказался в положении не только выразителя той эпохи, но и ее типичного продукта. Я — хотя теперь вернее будет сказать «мы» — мы толком не знали, чего требует от нас Нью-Йорк, и это приводило нас в смятение. Спустя всего несколько месяцев после начала нашей нью-йоркской авантюры мы уже плохо представляли себе, кто мы такие, и не имели ни малейшего понятия о том, чем занимаемся. Стоило нам прыгнуть в городской фонтан или слегка повздорить с полицией, как мы становились героями светской хроники, причем в газетах приводилось наше мнение по целому ряду вопросов, в которых мы совершенно не разбирались. Все наши «связи» по существу ограничивались пятью-шестью неженатыми однокашниками да несколькими новыми знакомыми из литературной среды. Помню тоскливое Рождество, когда все наши друзья разъехались кто куда, а в гости нас никто не пригласил. Не найдя компании, которая могла бы стать для нас центром притяжения, мы сами сделались таким маленьким центром и, несмотря на свои неуживчивые характеры, постепенно приспособились к жизни тогдашнего нью-йоркского общества. А вернее сказать, Нью-Йорк забыл о нас, и мы смогли там остаться.
Это рассказ не о переменах, происходивших в городе, а о тех переменах, что происходили в авторском восприятии города. Из всей неразберихи 1920 года мне запомнилось то, как жаркой воскресной ночью я ехал по безлюдной Пятой авеню на крыше такси, как завтракал с томной красавицей Кей Лорел и Джорджем Джином Натаном в прохладе «Японского сада» в «Ритце», как то и дело писал всю ночь напролет, как переплачивал за тесные квартиры и покупал великолепные, но вдребезги разбитые автомобили. Появились первые подпольные питейные заведения, вышли из моды неторопливые прогулки, лучшим местом для танцев был просторный «Монмартр», где в толпе подвыпивших студентов мелькали белокурые кудряшки Лиллиан Тэшман. Все валом валили на спектакли «Деклассированная» и «Любовь небесная и любовь земная», а на представлении «Полночные безумства» можно было станцевать бок о бок с Мэрион Дэвис и узнать жизнерадостную Мэри Хэй среди молоденьких танцовщиц кордебалета. Нам казалось, что мы далеки от всего этого; возможно, всем кажется, что они далеки от своего окружения. Мы чувствовали себя маленькими детьми, впервые попавшими в огромный ярко освещенный сарай. Когда нас пригласили в студию Гриффита на Лонг-Айленд, мы испытывали трепет при виде знакомых лиц из «Рождения нации»; потом до меня дошло, что многие зрелища, которыми город развлекает всю страну, создают люди одинокие и не очень уверенные в себе. Мир киноактеров походил на наш собственный тем, что он находился в Нью-Йорке и не был там своим. Это был неуютный мир, ему недоставало объединяющего центра: когда я познакомился с Дороти Гиш, у меня возникло такое чувство, будто оба мы стоим на Северном полюсе и идет снег. Впоследствии актеры обрели свой дом, но Нью-Йорку так и не суждено было им стать.
Иногда мы от скуки брали свой город штурмом, пуская в ход извращенное воображение в духе Гюисманса. Днем, одни в своей «квартире», мы выпивали кварту виски «Бушмиллз», подаренную Зои Акинс, и закусывали сэндвичами с маслинами, потом — на улицу, в только что заколдованный город, в чужие парадные двери, в чужие квартиры, с периодическими поездками на такси во мраке теплых ночей. Наконец-то мы с Нью-Йорком были неразлучны и тащили его за собой в каждую дверь. И до сих пор во многих незнакомых квартирах у меня возникает ощущение, что я уже бывал то ли там, то ли в квартире этажом выше или ниже — может, это было в ту ночь, когда я пытался раздеться в клубе «Скандалы», или в ту ночь, когда (как я с удивлением прочел в газете наутро) «Фицджеральд сбил с ног полицейского по эту сторону рая»? Победы в драках среди моих достижений не числились, и я тщетно пытался восстановить в памяти ход событий, которые привели к столь драматической развязке в клубе «Вебстер-Холл». И последнее, что запомнилось мне из того периода, это как однажды днем я ехал на такси между очень высокими зданиями, под розовато-лиловым небом; я принялся громко кричать, ведь у меня было все, чего я мог желать, и я знал, что больше никогда не буду так счастлив.
Для нашего шаткого положения в Нью-Йорке было типичным то, что перед самым рождением ребенка мы, не желая рисковать, уехали домой в Сент-Пол — казалось, этот мир, полный очарования и одиночества, не создан для новорожденных младенцев. Тем не менее, через год мы вернулись и снова взялись за старое, правда, такая жизнь нам уже почти разонравилась. Мы многое повидали, но при этом оставались едва ли не театрально наивными, предпочитая не наблюдать, а находиться в центре внимания. Однако наивность — не самоцель, и, невольно становясь людьми здравомыслящими, мы увидели жизнь Нью-Йорка во всем ее многообразии, и кое-что из этого многообразия постарались приберечь на будущее, ибо не сомневались, что вскоре заживем по-другому.
Было слишком поздно — или слишком рано. Для нас жизнь в Нью-Йорке была неразрывно связана с возлияниями во славу Бахуса, то умеренными, то экстравагантными. Взять себя в руки мы могли только по возвращении на Лонг-Айленд, да и то не всегда. У нас не было стимула к тому, чтобы пойти городу на уступки. От моего первого символа остались одни воспоминания, ибо я осознал, что каждый переживает триумф в одиночку; второй утратил свой романтический ореол — обе актрисы, которых я издали боготворил в 1913 году, уже отобедали у нас дома. Но то, что потускнел даже третий символ, вызывало у меня определенные опасения: темп жизни в городе непрестанно нарастал, и там уже не осталось мест с такой безмятежной обстановкой, как в квартире Банни. Сам Банни женился и вот-вот должен был стать отцом, некоторые друзья уехали в Европу, а холостяки превратились в младших представителей семей, более многочисленных, чем наша, и занимавших более высокое положение в обществе. К тому времени мы уже были «знакомы со всеми» — то есть с большинством тех, кого Ральф Бартон мог бы нарисовать в виде музыкантов оркестра на очередной премьере.
Однако мы больше не были важными лицами. К 1923 году перестали считаться современными — по крайней мере на Востоке страны — женщины свободной морали, описание жизни которых во многом способствовало популярности моих первых книг. Я решил нагрянуть на Бродвей с пьесой, но Бродвей отправил своих скаутов в Атлантик-Сити и загубил идею на корню. Мне стало ясно, что пока нам с городом почти нечего предложить друг другу. Оставалось лишь запомнить атмосферу Лонг-Айленда, с которой я уже сроднился, и воссоздать ее под чужим небом.
Прошло три года, прежде чем мы вновь увидели Нью-Йорк. Пароход плавно двигался вверх по реке, и вдруг, в бледных сумерках, нашим взорам открылся этот внушающий трепет город — белый ледник нижнего Манхэттена, устремившийся вниз, словно пролет подвесного моста, чтобы подняться на верхний Манхэттен, — чудо, сотканное из мерцающего света, под звездным небом. На палубе заиграл оркестр, но при виде величественного города звуки марша казались заурядным бренчанием. Я осознал, что Нью-Йорк — как бы часто я его ни покидал, — это мой дом.
Ритм городской жизни резко изменился. Все сомнения, одолевавшие людей в 1920 году, развеялись, сменившись неуемным желанием преуспеть, и многие наши друзья разбогатели. Однако в 1927 году неугомонность Нью-Йорка была уже близка к истерии. Приемы отличались гораздо большим размахом — к примеру, те, что устраивал Конде Наст, ни в чем не уступали легендарным балам девяностых годов; город не отставал от века — по части развлечений он подавал пример Парижу; в спектаклях уже допускались сальности, дома стали выше, нравы — свободнее, спиртное — дешевле; но все эти приметы благоденствия не вызывали особого восторга. Молодые люди рано начинали стареть — уже в двадцать один год они становились вялыми и тяжелыми на подъем, и никто из них, кроме Питера Арно, не вносил в жизнь города ничего нового; быть может, Питер Арно и его соавторы сумели сказать об эпохе бума в Нью-Йорке все то, что невозможно было выразить игрой джаз-оркестра. Многие люди, которые отнюдь не были алкоголиками, закладывали за воротник четыре дня в неделю, и почти у всех были истрепаны нервы; на основе общей нервозности образовывались теплые компании, и ежедневное похмелье считалось делом таким же естественным, как сиеста в Испании. Чем лучше люди приспосабливались к жизни, тем больше пили, и большинство моих друзей пили запоем. В те времена в Нью-Йорке людям многое доставалось легко, и если человек предпринимал какие-либо усилия, особого уважения это не вызывало; любой план достижения успеха стали неодобрительно называть «аферой» — я проворачивал литературные аферы.
Мы поселились в нескольких часах езды от Нью-Йорка, и вскоре до меня дошло, что, приезжая в город, я всякий раз становлюсь активным участником сложной цепи событий, а потом, два-три дня спустя, меня в состоянии почти полного изнеможения сажают на поезд до Делавэра. Целые районы города стали фактически непригодными для жизни, но во время недолгой прогулки верхом — в темноте через Центральный парк на юг, туда, где между деревьями видны огни зданий 59-й улицы, я неизменно обретал душевный покой. Там вновь возникал мой пропавший город, всё так же окутанный неразгаданной тайной и вселяющий смутные надежды. Однако вскоре всякий раз приходилось возвращаться обратно: если работяге надлежит жить во чреве города, то я был вынужден обитать в его помрачившемся рассудке.
Зато там были подпольные питейные заведения, самые разные — от роскошных баров, чья реклама печаталась в студенческих изданиях Йеля и Принстона, до пивных под открытым небом, где сквозь немецкое добродушие хозяев проглядывал злобный лик преступного мира, и странных, еще более мрачных мест, где за посетителями следили парни с каменными лицами, а вместо жизнерадостной атмосферы было сплошное скотство, способное испортить посетителю настроение на весь следующий день. Еще в 1920 году я привел в негодование подающего надежды молодого бизнесмена, предложив выпить по коктейлю перед обедом. В 1929 году едва ли не в каждом втором учреждении делового района имелось спиртное, и едва ли не в каждом втором большом здании находилось подпольное заведение.
Подобные заведения приобретали все большую популярность, как, впрочем, и Парк-авеню. За минувшее десятилетие почему-то были преданы забвению, да и перестали что-либо символизировать Гринвич-Виллидж, Вашингтон-сквер, Марри-Хилл, роскошные особняки Пятой авеню. Город обрюзг, зажрался, отупел от обилия хлеба и зрелищ, и весь восторг, вызванный сообщением о строительстве новых сверхвысоких небоскребов, находил свое выражение в новомодной фразе «Ведь это ж надо!». Мой брадобрей ушел на покой, заработав полмиллиона игрой на бирже, и я ничуть не сомневался в том, что метрдотели, которые с поклоном — или без поклона — провожают меня к моему столику, гораздо богаче меня. Все это было совсем не весело — Нью-Йорк снова надоел мне, и было приятно чувствовать себя в безопасности на пароходе, в баре которого непрерывно, до самого прибытия во Францию с ее непомерно дорогими гостиницами, продолжалось шумное веселье.
— Какие новости из Нью-Йорка?
— Акции растут в цене. Ребенок зверски убил гангстера.
— И все?
— Все. На улицах орет радио.
Когда-то я считал, что в жизни американцев не бывает второго акта, но Нью-Йорк времен бума обойтись без второго акта никак не мог. Мы были где-то в Северной Африке, когда вдалеке что-то с треском рухнуло — до нас донесся глухой звук, и эхо от него прокатилось по всей пустыне.
— Что случилось?
— Вы слышали?
— Ничего страшного, пустяки.
— Может, стоит вернуться домой и все выяснить?
— Нет… это пустяки.
Спустя два года, безрадостной осенью, мы вновь увидели Нью-Йорк. Необычайно вежливые таможенники произвели досмотр, а затем, сняв шляпу и почтительно склонив голову, я вошел в огромный гулкий склеп. Среди развалин все еще играли немногочисленные призраки детей, притворявшиеся живыми, но притворство было неубедительным: их выдавали взволнованные голоса и щеки, покрытые нездоровым румянцем. Пустые разговоры на приемах, едва ли не последних пережитках карнавальной эпохи, напоминали стенания раненых: «Пристрелите меня, ради всего святого, кто-нибудь, пристрелите!» — да стоны и крики умирающих: «Вы заметили, что акции “Юнайтед Стейтс стил” упали еще на три пункта?!» Мой брадобрей снова работал в своей парикмахерской; и вновь с поклоном провожали посетителей к их столикам метрдотели — если было кого провожать. Над руинами, одинокий и непостижимый, как сфинкс, возвышался Эмпайр-стейт билдинг, и если раньше я, не изменяя своей традиции, поднимался в бар на крыше отеля «Плаза», чтобы попрощаться с этим прекрасным городом, простиравшимся до самого горизонта, то теперь я вышел на крышу последней, самой величественной из башен. А потом я понял — всему нашлось объяснение: я уже обнаружил, в чем заключается величайшее заблуждение города, нашел его ящик Пандоры. Упоенный тщеславной гордостью, житель Нью-Йорка поднялся сюда и в смятении увидел то, о чем никогда не подозревал: оказалось, что город — это не бесконечная череда каньонов, как он предполагал, у города есть границы; с крыши самого высокого здания он впервые увидел, что город со всех сторон плавно переходит в сельскую местность, в зеленые и голубые просторы, и лишь они безграничны. И стоило ему прийти в ужас от осознания того факта, что Нью-Йорк — всего лишь город, а не вселенная, как вся стройная система взглядов — то сверкающее здание, которое он воздвиг в своем воображении, — с грохотом рухнула на землю. Вот как опрометчиво поступил Альфред У. Смит, сделав такой подарок жителям Нью-Йорка.
И вот я прощаюсь с моим пропавшим городом. При взгляде на него с парома ранним утром становится ясно, что он больше не сулит ни вечной молодости, ни невероятного успеха. Перезрелые красотки, которые дрыгают ногами перед пустыми креслами партера, не вызывают у меня никаких ассоциаций с неописуемой красотой девушек моей мечты, танцевавших на сцене в 1914 году. А Банни, уверенно шагавший с тросточкой средь карнавала, направляясь в свою обитель, сделался коммунистом и теперь печется о правах рабочих юга и фермеров запада, чьих голосов он не услышал бы пятнадцать лет назад, когда сидел в стенах своего кабинета.
Пропало все, остались лишь воспоминания, и тем не менее иногда я представляю себе, как с жадным интересом прочту один из номеров «Дейли ньюз» за 1945 год:
МУЖЧИНА ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ БУЙСТВУЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Фицджеральд всюду устраивал любовные гнездышки, утверждает красотка
Застрелен взбешенным бандитом
Так что, быть может, мне суждено когда-нибудь вернуться и набраться новых впечатлений в городе, где происходят события, о которых я до сих пор только читал. А пока мне остается лишь громко жаловаться на то, что пропал мой прекраснейший мираж. Вернись, вернись, о великолепный и непорочный!
Перевод: В. Коган

