Что делает бестселлер бестселлером?
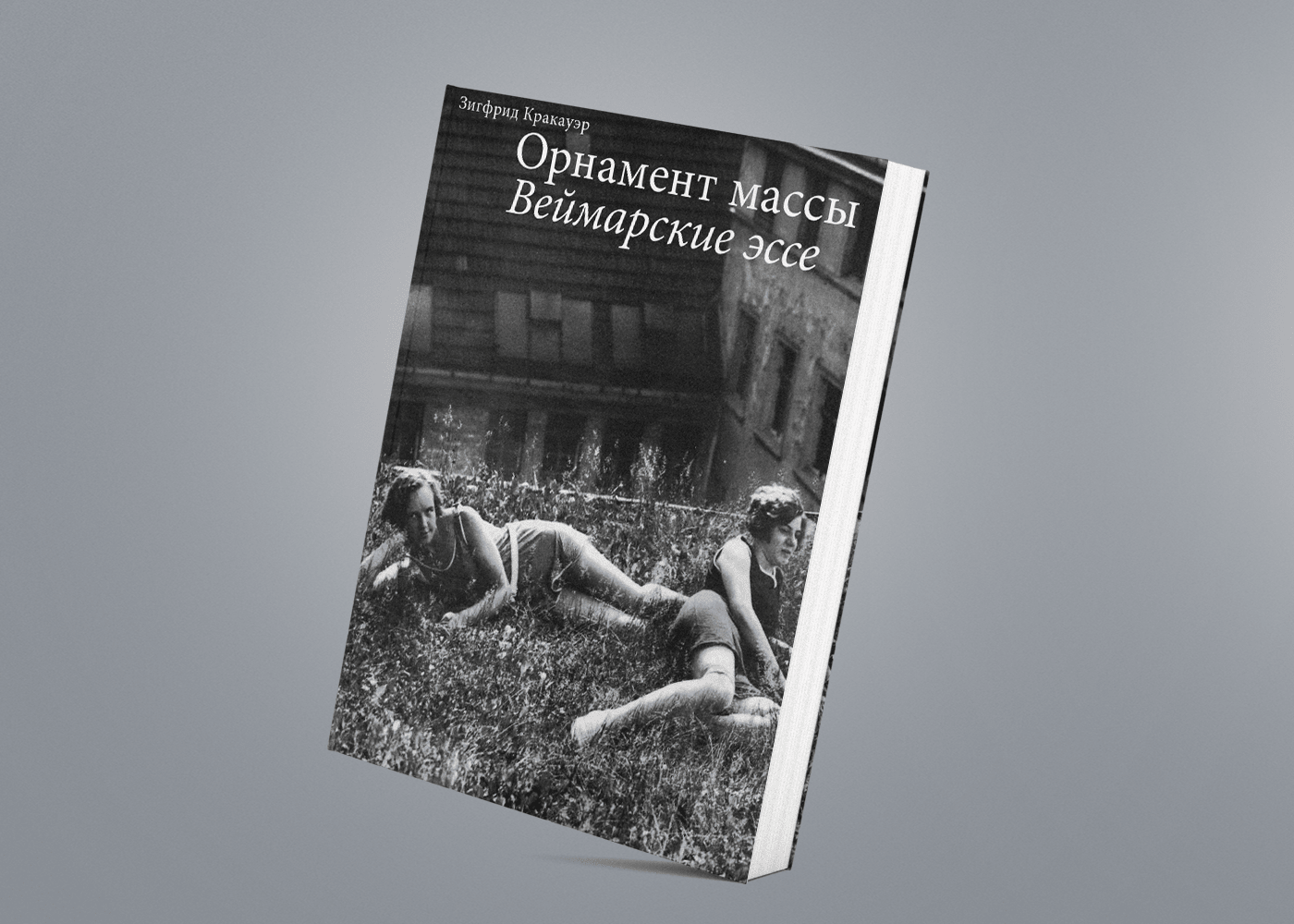
О бестселлерах и читающей их публике
1
Рубрика «Что делает бестселлер бестселлером?», появившаяся в литературном приложении к «Франкфуртер цайтунг», наделала в кругах издателей и читающей публики немало шума. Через нее уже прошли модные творения Рихарда Фосса, Стефана Цвейга, Ремарка и Франка Тисса; недавно ряды их пополнил и Джек Лондон, хотя, по правде сказать, смотрится он в такой компании не совсем уместно. Продолжить список не составит труда, я даже осмелюсь предположить, что заданный формат позволит, например, объяснить успех произведений биографического характера или вскрыть причину восторженных реакций, какие вызывают иные романы, печатающиеся в иллюстрированных газетах. Изыскания, коими мы располагаем на сегодняшний день, по моему разумению, достаточно наглядно проясняют цели и задачи рубрики. Однако позиция, заявленная в них, понята в корне неверно. И сейчас самое время подвергнуть ее непредвзятой и доскональной критике. Выводы, полученные из опубликованных материалов, послужат нам основой.
2
Выбор произведений уже проливает свет на то, ради чего эта рубрика затеяна. Правда, из нее заведомо исключен внушительный пласт явно или неявно низкопробной продукции. Выпуск последней поставлен на широкую ногу с незапамятных времен. Мотивы, предваряющие ее появление, неизменно одни и те же и никоим образом не связаны с нынешним положением вещей. Значимые содержания в подобном чтиве всегда искажены и потакают вкусам, столь же инертным, сколь и композиция этих опусов. Если их популярность связана с удовлетворением устойчивых человеческих инстинктов и исполнением тайных надежд, то успех других бестселлеров обеспечивается сенсационностью событий, владеющих умами масс в данный момент. Подобные литературные шлягеры, злободневные единственно по своему содержанию, рубрика также оставляет без внимания. Равно малоинтересны для нее и публикации изначально ориентированные на довольно узкую группу читателей, а именно произведения выраженной политической направленности и книги, обязанные своим воздействием исключительно тому, что полностью отвечают, скажем, мировосприятию католика или ходу мыслей представителя пролетариата. Откуда берутся их массовые тиражи, гадать не приходится. Успех книг, не подпадающих ни под одну из вышеназванных категорий, казалось бы, впору приписать богатству их доподлинного и во всех отношениях убедительного содержания. Будь это так, нам оставалось бы свести весь анализ к сути этого содержания, дабы причины популярности книги предстали как на ладони. Однако заключенное в ней содержание сравнимо со звездами, чей свет достигает Земли лишь по прошествии десятилетий. За свою историю человечество знавало времена, когда многое казалось открытым раз и навсегда и в необходимости новых поисков просто не видели смысла. Но сегодня небо затянуто тучами, и кто знает, удастся ли узреть звезды даже в гигантский телескоп. Некоторые книги Франца Кафки не разошлись и тысячным тиражом. Возможно, помимо содержания существуют еще иные причины, определяющие успех литературного продукта. Все даже с точностью до наоборот: чем больше в книге золотых жил, тем скорее толпа, охочая до золота, но не имеющая волшебной лозы, встретит ее с пренебрежением. В процессе разбора заложенные в произведение смыслы проступают на поверхность и естественным образом делаются общедоступными, так что каждый считает себя вправе выносить о них суждение…
Но чем тогда объяснить успех книг, о которых ведется тут речь, если не заключенным в них содержанием? Вопрос этот тем более оправдан, поскольку даже те, кто напрямую заинтересован в ответе, только руками разводят. Искушенные редакторы и издатели, несмотря на свою опытность, а быть может, благодаря ей, предпочитают воздерживаться от предсказаний. Обычно они твердят, что успех книги заранее предвидеть невозможно, а если и решаются сделать прогноз, так тот не более надежен, чем расчеты метеорологов. Сколь беспомощны специалисты, предрекающие литературную погоду, красноречиво подтверждает случай Ремарка. Рукопись его романа пренебрежительно отвергали самые почтенные издатели, а уж они- то падки до бестселлеров, способных влить свежую струю в их дело, и, когда после долгой одиссеи рукопись, к счастью, наконец попала в гавань «Ульштайна», даже тамошние инспекторы не сразу распознали ее подлинную, выраженную в цифрах ценность. Случается, и авгуры, набравшись смелости, делают погоду. Мне известно об одной книге, чей запоздалый успех, вполне возможно, связан с курьезом, происшедшим на старте. Выход в свет этой книги совпал по времени с сентябрьскими выборами, накануне которых она уже лежала готовая к рассылке. После обнародования результатов выборов книгу решили придержать и даже на скорую руку изменили некоторые пассажи, дабы не задеть предельно обостренные чувства националистически настроенных масс. Все эти факты не только лишний раз подтверждают, что размер тиража еще не является критерием ценности, но вскрывают непреложные составляющие большого успеха. Такой успех — пример удачного социологического эксперимента, доказательство того, как счастливо в очередной раз оказались замешаны ингредиенты, пришедшиеся по вкусу аноним-ной читательской массе. А вкус определяют простые потребности; то, что им отвечает, принимается с жаром, все прочее решительно отвергается; качество самого текста тут вообще ни при чем — разве только в той степени, в какой оно удовлетворяет читательским аппетитам. Допустим, в структуру текста и вправду заложены совершенно конкретные сущности, но славу книги составляет не со-держание, в гораздо большей степени она рождается на контрасте с господствующими в социальном пространстве тенденциями. Сбыт книжной продукции в конце концов напрямую зависит от ее способности потакать требованиям самых широких слоев потребителей. Требованиям настолько пространным и устойчивым, что какая бы то ни было их корректировка, будь то под воздействием личных пристрастий или самого обыкновенного гипноза, вряд ли возможна. Суть этих требований неизменно строится на социальном положении потребителей.
Какую же социальную нишу занимает публика, которая, собственно, и обеспечивает книге успех? Во всяком случае, пролетариев в ее рядах нет. Пролетариат, как правило, жаден до книг стереотипного содержания и перечитывает то, о чем когда-то наслышался от бюргеров. Именно бюргерство по-прежнему споспешествует сомнительной славе отдельных писателей и их реальному, не вызывающему никаких сомнений благосостоянию. Это уже не относительно замкнутый класс, как раньше, но настоящий конгломерат самых разных гильдий, от крупной буржуазии до пролетариата. За последние пятьдесят лет они сложились заново и до сих пор еще пребывают в процессе грандиозных преобразований. Что нам о них известно? Ничего или очень немного, и тут невольно напрашивается вывод: шансы на успех нельзя определить заранее. Конечно, есть еще классовый инстинкт, но и он не имеет уже прежней силы, а значит, любой литературный продукт, выбрасываемый на рынок, становится частью лотерейного розыгрыша.
3
Структурные изменения в экономике, которыми отмечен сегодняшний день, коснулись перво-наперво давнего среднего сословия, в том числе мелкой буржуазии. Именно это сословие, носитель буржуазной культуры, составляло в прошлом костяк читающей публики, а нынче оказалось на грани самороспуска. Среди событий, этот роспуск обусловивших, следует упомянуть инфляцию и последующее разорение мелких акционеров, концентрацию капитала и возрастающую рационализацию, не говоря уже о кризисе, который ведет к дальнейшему распаду субстанций. Все вышеперечисленное так или иначе лишило народившихся представителей среднего класса определенных предпосылок, в свое время утверждавших статус их предшественников: какой- никакой самостоятельности, скромной ренты и т. д. Они попали в зависимое положение и опустились до «пролетарствующего» существования. Выявлению примет этой пролетаризации посвящена моя работа «Служащие», где предпринята скромная попытка очертить нишу, занятую детьми и внуками тех, кто составлял основу среднего класса в довоенный период. С экономической точки зрения их отделяет от рабочих один шаг, а то и меньше. Естественно, новые условия производства оказывают воздействие и на крупную буржуазию. Она отчасти переходит на положение служащих, функционализируется и пребывает в процессе активного переформирования, исход которого предугадать трудно.
Упомянутые структурные изменения, к слову сказать, порождают тенденции, противоречащие унаследованным представлениям и потому пребывающие до поры до времени в зачехленном виде. Речь идет о тенденциях, в свете фактической ситуации вполне оправданных, предусматривающих конкретное повсеместное воплощение, однако не вполне совместимых с частнокапиталистическими основами. Общественное право все больше вторгается в сферу индивидуального, его полномочия неизменно расширяются; идея социальных обязательств приобрела настолько реальные формы, что вытравить ее уже невозможно; градостроительство и территориальное планирование выходят за рамки индивидуального эгоизма; все больше набирает обороты коллективизация жизни. Есть только одно «но»: все эти течения, принимая в расчет и социальную действительность, и материальную необходимость, пока еще не способны самостоятельно выстроить систему, подходящую для своего развития. До известной степени они сохраняют инкогнито, а если и заявляют о себе не привыкшему к ним восприятию, то прячутся под личиной.
Место для них непременно нашлось бы, поскольку буржуазное сознание в своей сущности точно так же сдало, как и его носители. Насильно лишенные экономической и социальной базы, они больше не в состоянии держаться на плаву. И тут волей-неволей приходится думать об атрофии сословного сознания у чиновников и служащих, о сдаче индивидуалистических позиций, нередко ощутимой на практике, а в первую очередь о свободных от иллюзий лидерах прежде двигавшие экономикой, обернулись риторическими украшениями для торжественных речей. Из-за сложившихся ныне обстоятельств они низвергнуты в своей глубинной сути, и отказ от этой сути свидетельствует о чувстве реальности у тех, над кем нависла угроза духовного обнищания. Впрочем, кое-кому — но таких немного — еще удается видеть дальше своего носа. В науке, культуре, политике и т. д. основная масса поклоняется идеалам, давным-давно проверенным на собственном опыте.
Свидетельствует ли разоблачение (к тому же еще не признанное окончательно) некоторых идеологий о слабости буржуазного сознания? Молчание высших слоев так или иначе толкает молодежь к радикализму. Человек живет не хлебом единым, тем более когда этого хлеба нет. Даже правые радикалы отчасти эмансипировались от буржуазного мышления, которое, похоже, перестало их удовлетворять, — во имя иррациональных сил, разумеется, всегда готовых к компромиссу с буржуазными властями. Значительная часть среднего сословия и интеллектуалов не участвует в этом мифическом мятеже, справедливо усматривая в нем возврат к старому. Вместо того чтобы пробить духовный вакуум, воцарившийся в верхах, и вырваться из клетки буржуазного сознания, они, напротив, всеми средствами стараются это сознание законсервировать. Скорее из страха, нежели из чистого простодушия. Из страха увязнуть в пролетариате, сделаться духовными люмпенами и закрыть себе путь к истинному просвещению. Но чем скрепить такую опасно пошатнувшуюся надстройку? Она не нуждается ни в каких материальных опорах, откуда, естественно, не следует, что роль эта достанется новоиспеченным слоям общества, причисляющим себя к буржуазии. Их представители толком даже не понимают, где их место, и только ратуют за свои привилегии и, быть может, еще за традиции. Животрепещущий вопрос встает перед ними: как укрепить свои позиции? Поскольку в нынешних обстоятельствах буржуазное сознание так запросто в чистом виде не перенять, они вынуждены идти окольными путями, дабы сохранить видимость былой духовной власти.
4
«Анализ популярных книг, — писал я в статье о Франке Тиссе, — это способ изучения тех общественных прослоек, чью структуру прямым путем не определить». И в самом деле, благодаря проведенным исследованиям нам стали понятны ключевые мотивы поведения буржуазии, оказавшейся в стадии брожения. Особенно те (главным образом бессознательные) меры, к которым она прибегает для самозащиты; ведь можно предположить, что большим успехом пользуются именно книги, об этих мерах повествующие или им сочувствующие.
Залог успеха кроется в ярко выраженном индивидуализме. Вот какую характеристику получают герои романа Фосса: «Будучи взрослыми индивидами, они равно протестуют против коллективизации, заявляющей о себе все громче, и обеспечивают в некотором роде прикрытие тылов. Они идут против большинства немецкого народа… во всяком случае, роман доказывает, что „личности“ такого масштаба, как Юдит и отец Павел, обладают все-таки ничуть не меньшей привлекательностью, чем представители массы». И Тисс, и Цвейг также ставят индивида в центр повествования. Там, где он выходит на сцену, трагедия неизбежна. Она увлекает буржуазное существование на метафизические глубины и уже оттуда, возможно вследствие искаженных форм, превращается для публики в объект соблазна. «Под гнетом забот и страхов человек нашего времени, — говорится в новеллах Цвейга, — а человек высшего общества особенно, в зачастую тщетной борьбе за сохранение уровня жизни вынужден почти всегда скрывать свои чувства… он жадно хватается за вымышленные сюжеты, поскольку в них бушуют страсти, кипучие и безудержные, хотя и малоправдоподобные, и поскольку отдельно взятая судьба даже посреди страшной катастрофы празднует триумф». Средний класс оказывается как бы между двух стульев и, хотя усматривает злой рок в этом своем положении, тем не менее всеми силами желает в нем утвердиться, но волей-неволей раздувает любое несчастье до трагедии. Индивид, преданный идее и потому обреченный на трагическую гибель, становится также частью идеалистического мировоззрения, и нет ничего удивительного, что у такого идеализма находится немало поборников. Правда, это не подлинный идеализм прошлого, но его весьма приблизительная копия. Когда ко мне в руки попадает проза Стефана Цвейга, я всякий раз убеждаюсь, какое непререкаемое и «обворожительное воздействие от иных его фраз испытывают многие наши современники, желающие любой ценой сберечь в целости давно поблекший идеализм». Кстати, почти все они — представители высших слоев, где должно блюсти стиль и дистанцию. Тон задает музыку, и Цвейгу, как показано на примере новелл, удается в точности уловить именно такой тон, какой принят в образованных кругах, где на каждом шагу кичатся вкусом и утонченным воспитанием. Средний класс и вообще обедневшие массы взамен высоких отступных требуют душу — на нее, по крайней мере, не надо тратиться. Ведь чувства— это все, за неимением ничего другого. Они одухотворяют трагизм, не упраздняя его, и затуманивают глаза критике, потенциально настроенной чинить препоны, ведь она может стать угрозой консервированию изжившего себя содержания. Фосс пытается компенсировать скупой драматизм манерой повествования, которой, скорее всего, книга и обязана своим резонансом. Она насквозь пронизана сентиментальностью, в литературном отношении совершенно неоформленной и ориентированной на безликие народные массы. Успех Ремарка кроется в его умении проникнуть в читательские души и задеть там нужные струны. «Такая проникновенность, — поясняется в рецензии на его роман, — …с социологической точки зрения выявляет те слои общества, которые испытали ее воздействие наиболее сильно и, по сути, определили успех книги. В этом состоянии, выражающем нечто среднее между молчаливым согласием и протестом, узнается стереотип поведения среднего класса».
Неустоявшиеся смыслы подкрепляются часто не напрямую, но косвенно, например, бегство на чужбину позволяет уйти от ненужной полемики. Если пустить все на самотек, господа Смыслы так запросто своих позиций не сдадут. Их накроют стеклянным колпаком и отправят на променаж. Излюбленным местом для подобного рода прогулок была и остается эротика. Охочему до нее Тиссу принадлежит следующее замечание: «Полагаю, что многих читателей прельщает этакое обильно сдобренное эротикой томление, против которого, по существу, возразить абсолютно нечего, поскольку для передачи общего тона повествования его присутствие абсолютно законно». Популярность географических приключений отчасти, конечно, объясняется тем, что книги этого жанра отвращают от приключений умозрительных. К прямым поставщикам продукции подобного сорта не в последнюю очередь относится Джек Лондон. Пусть даже, если верить приведенным в анализе выводам, знаковым для его прозы является трепетное отношение к природе. Природа — и популярность его книг это подтверждает — становится для массового читателя желанным прибежищем. Если апеллировать к разуму, природе несоразмерному, не ровен час пошатнется вся структура сознания; зато отход к природе гарантирует сомнительному содер-жанию неприкосновенность. Природа — трагическая или демоническая, не имеет значения, — становится мягкой подушкой для всех, кто не желает пробуждаться. «Герои новелл Цвейга — безумцы, одержимые, околдованные и завороженные — хоть и не в ответе за свои поступки, но все же стремятся этими поступками что- то показать, что-то неопределенное, таинственное…» Природа Джека Лондона настроена к человеку доброжелательно, это идеальная природа, которой можно безоговорочно отдаться. Человек устоял перед лицом самых разных опасностей, и «нет демона, который бы гнал его к краю пропасти, как бродяг Гамсуна; он только следует своей „природе“». А та — нема и непостижима и потому задает в конце концов предел тому, что постижению подлежит. Преимущество, наверняка гарантирующее успех. Ведь современный читатель, этот залог великого успеха книги, следуя инстинкту самосохранения, больше всего на свете желает утопить мучительные вопросы на дне молчания. Он совершенно оправданно, а может и нет, боится услышать ответ и оттого нуждается в барьерах, препятствующих познанию. Его требование — индифферентность. Безусловно, она споспешествовала популярности Ремарка у мелкой буржуазии всего мира. «Единственный в книге разговор о войне, — отмечает в своем анализе рецензент, — подтверждает ту самую… индифферентность, которая ограничивается одной лишь фразой: „А вовсе без войны еще лучше“. Если где-то поднимается возглас возмущения, то направлен он против зависимых авторитетов, ненависть испытывают только к самозваным патриотам в штатском, так, например, ополчаются на учителя, которому воздается злом за то, что он агитирует идти в добровольцы людей, совершенно к службе непригодных».Таким образом, наши изыскания весьма развернуто отображают структуру сознания новой буржуазии. Новая буржуазия принимает меры по укреплению смысловых основ, с высоты сегодняшнего дня недостаточно прочных. Она готова на что угодно, лишь бы избежать противоборства между изжившими себя идеалами и современной социальной действительностью, а потому ударяется в бегство, ища прибежища в самых разных частях света. Она предпочитает почивать на груди у природы, где можно отказаться от языка и дать отпор всему рациональному, нацеленному на устранение мифологических структур и арсеналов сознания.
5
Кто жаждет перемен, должен ясно сознавать суть подвергаемого этим переменам. Облегчить вмешательство в общественную действительность — вот в чем заключается практическая ценность заведенной нами рубрики.



