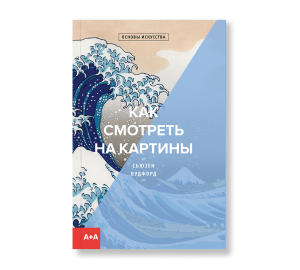Не знаю, что вы об этом думаете, но у меня просто нет слов

Один из ярчайших французских историков искусства второй половины XX века Даниэль Арасс в своей небольшой книге «Взгляд улитки», впервые опубликованной в 2000 году, подвергает пристальному анализу несколько классических произведений живописи XVI–XVII веков, в том числе такие хрестоматийные, как «Венера Урбинская» Тициана и «Менины» Веласкеса. Построенная в форме писем ученице, написанная непринужденно и увлекательно, книга показывает, какое большое значение могут иметь в искусстве самые незначительные, на первый взгляд, детали и каким плодотворным оказывается применительно к ним иконологический подход с элементами семиотики.
Мы публикуем главу из книги об изображении огромной улитки, которая ползет в момент Благовещения от архангела Гавриила к Марии, на картине XV века Франческо дель Косса.
Я понимаю, к чему вы клоните: вы еще скажите, что я преувеличиваю, что я волен поступать, как знаю, но толкование мое слишком надуманно. Волен поступать, как знаю, — большего и желать нельзя, но если говорить о вольных интерпретациях, то здесь именно вы преувеличиваете. Я действительно много чего вижу в этой улитке, но если художник так ее изобразил, то чтобы она была на виду, а мы задались вопросом, чтó она делает на картине. Или вы считаете это нормальным? По роскошному дворцу Марии в момент (столь священный момент!) Благовещения огромная улитка ползет от архангела к Богородице, не сводя с них глаз, и вам на это нечего сказать? Еще немного, и на переднем плане картины мы увидим позади улитки след от слизи! Во дворец Марии, чистой, нетронутой, непорочной Девы, скользкая улитка привносит беспорядок, и при этом не стесняется. Художник и не думал ее прятать от нас, наоборот, он специально выставил эту улитку на всеобщее обозрение. В итоге мы видим только эту улитку и размышляем только о ней: что она здесь делает? И не говорите мне, что это фантазия живописца. Безусловно, это capriccio самого Франческо дель Коссы, и, возможно, только художник феррарской школы мог выразить свою индивидуальность в такой парадоксальной форме. Но нам обоим известно, что всё одним лишь капризом не объяснишь. Будь эта улитка только фантазией художника, заказчик бы ее не одобрил, стер, замаскировал. Тем не менее улитка здесь, на картине. Значит, была веская причина для ее присутствия в таком месте и в такой момент.
На это у вас есть ответ, всегда одинаковый: иконография. И снова иконография успокаивает вас, отвечает на все ваши вопросы. Я тоже читал материал из The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, в котором ученый специалист «объясняет» улитку Коссы. Все просто. Эти славные простофили верили, что улитка оплодотворяется росой, поэтому она вполне может символизировать Деву, чье непорочное зачатие сравнивалось в том числе с оплодотворением земли дождем: Rorate caeli… «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда». Ученый-иконограф настолько уверена в своей правоте, что в качестве доказательства приводит лубочную гравюру, на которой под этим марианским текстом изображены несколько улиток, окропленных крупными небесными каплями. Вам все стало понятно: улитка символизирует Деву в момент Благовещения, а The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes отныне ручается за эту версию. Раз — и готово! Продано! Заверните!
Но я все-таки в этом не уверен. Я сомневаюсь. Если бы этот образ был настолько удачным, «естественным», то нам наверняка встретилась бы не одна улитка Благовещения. А вам, иконографам, много известно подобных улиток? Во всяком случае, насколько я знаю, они редко попадаются. Скажу вам все как есть: я видел такую улитку лишь однажды, да и то до конца не уверен в том, что именно я видел. В небольшом изображении Благовещения кисти Джироламо да Кремона, хранящемся в Пинакотеке в Сиене, я увидел на земле, на уровне лилии архангела Гавриила, два или три камушка, которые, как мне показалось, очень отдаленно напоминали пустые ракушки. Нет, улитки встречаются в изображениях Воскрешения или погребения (потому что улитки выползают из ракушек, подобно мертвым, встающим из гроба во время Страшного суда). Улитки слишком редко встречаются в картинах Благовещения, чтобы можно было утверждать, что это вполне естественный символ Девы в момент Боговоплощения. Но вам вновь удалось добиться своего: вы обошли неудобные моменты и лишили своеобразия редкое явление, обратившее на себя ваше внимание. Ваша иконография выполнила свою задачу — раздавила улитку. Она больше не мешает. Бесспорно, иконографы своего рода пожарные в области истории искусства: они всегда там, где нужно унять фантазию, потушить огонь, который мог бы спровоцировать ту или иную аномалию, а иначе вам пришлось бы в нее всмотреться и признать, что не все так просто и очевидно, как вам того хотелось бы.
Будем справедливы: ученая дама из Journal of… обнаружила одну из возможных предпосылок появления этой непрошенной гостьи у Коссы. Чтобы поместить улитку в сюжет Благовещения, художнику надо было найти в этом образе смысл, который был бы приемлем и для заказчиков, и для него самого. Но ученая дама так и не объяснила, чтó делает улитка на первом плане картины, под самым носом зрителя. На то есть причина: иконография не ставит перед собой задачу объяснить. Она не обязана рассказывать нам, почему художник поместил сюда улитку, это не относится к ее задачам. Однако для этой картины такой вопрос вполне уместен: что на ней делает улитка?

На мой взгляд, для ответа на этот вопрос сначала нужно узнать, где именно на картине располагается улитка. Вы не понимаете, о чем я? Вы избегаете таких вопросов, считая их поверхностными. Какой смысл быть таким дотошным? И так видно, где находится улитка, и зачем об этом лишний раз задумываться? Но именно соглашаясь с очевидным (улитка находится на первом плане, внизу картины), вы упускаете из виду главное — то, что художник просит вас увидеть. Если я так говорю, то только потому, что тоже долгое время верил, будто идею Коссы можно попытаться понять исходя лишь из того, что улитка размещена на краю полотна. Я даже пришел к интересному объяснению, можно сказать блестящему — к чему ложная скромность между нами! Но я от него отказался, посчитав незаконченным и слишком хрупким. Хотя вам я все-таки открою его. Оно было достаточно забавным.
Я отталкивался от идеи о том, что смысл места, отведенного улитке, неотделим от построения перспективы на картине Коссы. Я до сих пор так считаю, потому что в этом произведении перспектива показана наглядно и мощно. Ее линии, как обычно, сходятся в центре, но при этом упираются в величественную колонну, так что пространство открывается с двух сторон, а именно в комнату рядом с Марией и в сторону города, чьи дворцы высятся в дали. Короче говоря, Косса демонстрирует блестящую технику, довольно редко встречавшуюся в Италии в 1469 году. Изысканная виртуозность, весьма в духе феррарской школы, усиливается за счет расположения персонажей картины, которое говорит о том, что Косса действительно хотел быть оригинальным. Он совершенно выдающимся образом разместил архангела и Деву по диагонали, уходящей в глубину картины: с левой стороны на первом плане изображен практически со спины коленопреклоненный Гавриил, тогда как Мария, повернувшаяся в три четверти, находится на среднем плане, в пролете портика. Не знаю, заметили вы или нет, но такое расположение создает странный эффект: внутри здания, где находятся Гавриил и Мария, они практически играют в прятки вокруг центральной колонны. Конечно, это сразу не бросается в глаза, но сомнений нет: большая центральная колонна находится на оси, соединяющей их. Внимание! Это не ошибка или просчет Коссы: он прекрасно знает, чтó делает. К тому же он не единственный художник, поставивший колонну между Гавриилом и Марией. Великий Пьеро делла Франческа делает то же самое в 1470 году в своем Благовещении, венчающем полиптих в Перудже. Разумеется, вам это известно, если вы читали то, что написал по этому поводу Томас Мартон. На этой картине перед Гавриилом также изображена колонна, сквозь которую он видит Марию, что нас совсем не смущает. Взгляд Господа проникает сквозь горы, а взгляд архангела вполне может проникнуть сквозь колонну. И не случайно, что этот взгляд проходит именно сквозь колонну: колонна — это известный, почти заурядный символ божественного начала, как Отца, так и Сына. В своих «Размышлениях о жизни Христа» Псевдо-Бонавентура поясняет: как бы стремительно ни летел Гавриил, в тот момент, когда он входит в комнату Марии, там уже незримо или неузнаваемо присутствует опередившая его Святая Троица. Говоря в терминах иконографии — что должно вас порадовать, — в сцене Благовещения колонна традиционно воплощает собой присутствие Бога. Косса специально это подчеркивает, поскольку рука Гавриила, воздетая к Марии, визуально касается ствола колонны: благословляя Деву, он указывает на величественное и таинственное присутствие божественного.
Отталкиваясь именно от этого факта, я вначале попытался объяснить расположение улитки. Учитывая стремление Коссы к усложненности, я вдруг задумался: а что если для оси, идущей снизу вверх в глубину по диагонали и соединяющей Гавриила / его правую руку / колонну / Марию, художник провел бы другую, ответную, менее очевидную линию, которая, также проходя через колонну и руку архангела, соединила бы улитку с неким элементом, расположенным в глубине верхней части картины. Это позволило бы объяснить смысл присутствия в картине брюхоногого моллюска. Вы опасаетесь такого поворота. Вы правы: я тоже не верю в «тайную геометрию» художников. Дух геометрии чаще присущ интерпретаторам, чем художникам.
Но именно в этом случае композиция явно геометрическая. Система, которую я искал, если и существовала, была простой, а поскольку она соответствовала общему духу картины, я ничего не терял. Хотя, кто знает… Каково же было мое удивление (как говорят), когда я убедился, что линия, соединяющая улитку и руку архангела на колонне, постепенно уводит мой взгляд в небо, к фигуре Бога Отца. И каким же было мое ликование (как не говорят), когда я увидел, что вместе со своим облачком Бог Отец странно походит на улитку, в то время как их размеры практически сопоставимы. Структура изображения наводила на мысль, что улитка на земле «эквивалентна» Богу на небесах.
О какой эквивалентности могла идти речь? Хороший вопрос: я так и не смог найти ни одного текста, описывающего Бога как улитку или наоборот. Очевидно, что Бог-улитка или Улитка-бог серьезно христианской экзегетикой не рассматривались. Действительно, с моей точки зрения (отличающейся от вашей), ничего не мешает художнику изобрести собственную экзегетику, а кроме того, в более радикальном случае, картина может и сама за него додумать. Я имею в виду, что система изображения, придуманная здесь Коссой, могла самостоятельно породить смысл, о котором автор не задумывался. Я посчитал забавным свое объяснение и часто рассказывал о нем студентам. Едва ли я сам в него верил, но в любом случае от него был толк: моя версия доказывала студентам, что, рассматривая картину, можно размышлять, и что размышление не обязательно сопряжено с печалью. Впрочем, когда-то давно, во время одной встречи в Болонье моя мысль обратила на себя внимание одного известного специалиста по средневековой экзегетике. По его мнению, даже если эта улитка единственная в своем роде, нет ничего предосудительного в том, чтобы представить ее в виде символа Бога Отца. Он объяснил это тем, что один из вопросов, волновавших средневековых толкователей Библии, связан с невыносимо долгим временным отрезком, разделяющим грехопадение Адама и Евы и Благовещение. Из-за этого временнóго разрыва возникает, среди прочего, вопрос о Чистилище и толпе несчастных, ожидающих там прихода Спасителя, который, впрочем, по словам Августина, сразу туда и отправляется после смерти, не дожидаясь Воскрешения. Возникает вопрос: зачем, ведь если Бог с начала времен знал, что воплотится в человека ради нашего спасения, то зачем он так долго ждал? Зачем так медлил? Другими словами, почему Бог вел себя, как улитка? Поэтому для художника улитка могла оказаться прекрасной возможностью, чтобы в контексте Благовещения напомнить о медлительности, с которой действовал Господь, прежде чем столь удачно воплотиться. Умберто тогда признался, что сразу не может вспомнить соответствующего средневекового текста, но если бы захотел найти такой текст, то он бы его обнаружил, а если бы не обнаружил, то написал бы сам (а он и вправду мог бы).
Образ улитки, напоминающей о непостижимом промедлении Бога в деле воплощения, оказался очень соблазнительным. Можно было представить, что Косса использовал улитку, хорошо известный символ Девы, чтобы также дать облик и самому Богу. Художник в каком-то смысле совместил два образа, и улитка стала символом Боговоплощения. Но уверяю вас, я не был в этом уверен. Меня смущала исключительность этой улитки в истории живописи. Если бы в виде улитки было мыслимо символически представить не только Марию, но и Бога, то аналогичные примеры встретились бы в других изображениях Благовещения. Если я до сих пор не могу с уверенностью сказать, что речь идет о единичном случае, но при этом мне неизвестны подобные изображения, то с исторической точки зрения сложно утверждать, что речь идет об образе Бога. Вы видите, что я еще не совсем лишился здравого смысла. Но я все еще не отказался от мысли разобраться в том, что делает на картине эта улитка. Месторасположение, выбранное Коссой для улитки, говорит о том, что он придает ей особый смысл. Косса делает все возможное, чтобы мы обратили на нее внимание, чтобы задумались о смысле ее присутствия. (Говоря «мы», я в первую очередь думаю о священнике, поскольку эта картина относится к алтарной части: когда священник поднимал просфору, чтобы ее освятить, он не мог не увидеть рядом с собой улитку, и возможно, он также задумывался о смысле ее присутствия.) В какой-то момент «проблема улитки» лишила меня покоя, и, в конце концов, я увидел в ней своего рода обращение художника к моему взгляду, я увидел вопрос, поставленный художником на краю своей картины и адресованный тем, кто смотрел и будет смотреть на нее в течение столетий.
Вам знакомо это состояние: думаешь, думаешь, ничего не приходит в голову, и вдруг, нá тебе, все открывается. Открывается то, что было перед глазами, но до сих пор не удавалось рассмотреть, хотя это была вполне очевидная вещь. И вот однажды мне бросилось в глаза то, что картина молчаливо мне показывала, причем на первом плане, — огромную, гигантскую, чудовищную улитку. Если вы мне не верите, сравните ее с размером ступни Гавриила, также находящейся на первом плане. Я знаю, что еще никто не пытался снять мерку с архангела, но с тех пор, как он принял человеческий облик и обнаруживает себя sub specie human, допустим, что mutatis mutandis его ступня такая же, как у человека, то есть длиной 25–30 сантиметров.
С учетом ступни Гавриила, размер нелепого брюхоногого составляет около 20 сантиметров в длину и 8–9 сантиметров в высоту. Это слишком много. Одним словом, улитка непропорционально велика в сравнении с тем, что ее окружает. Я мог бы задаться вопросом о причинах такой монструозности, что еще больше усложнило бы иконографическое толкование этой твари. Я решил обратиться к очевидному факту. Улитка изображена на картине, но расположена за ее пределами. Она находится на краю, на границе между своим условным пространством и реальным — тем, откуда мы на нее смотрим. Вот это и есть местоположение улитки, о котором я вам говорил.
Не притворяйтесь удивленной. Косса не в первый раз изображает предмет так, словно тот находится в пространстве зрителя. Несколько лет спустя в Зале Месяцев дворца Скифанойя в Ферраре художник аналогичным образом расположил одного персонажа на самом краю картины: усевшись на ложном выступе, совпадающем с планом стены зала, тот свесил ноги таким образом, что возникает впечатление, будто они действительно находятся в пространстве зала. Косса не первый и не единственный художник, передающий детали таким способом. У меня есть для вас отличный пример: Благовещение Филиппо Липпи в церкви Святого духа во Флоренции. Помните прозрачную вазу, которую Липпи поместил между Гавриилом и Марией на краю картины в углублении на полу? Часть ее находится внутри картины, а другая — снаружи. Это сравнение напрашивается, если считать улитку редкой метафорой оплодотворенной Девы; прозрачная ваза, наоборот, частая метафора Богородицы: луч света пронизывает стенки вазы, не разбивая их; то же относится к Деве и т. д. Местоположение улитки у Коссы напоминает местоположение вазы у Липпи. Итак, оба изображения расположены одинаково на картинах с одним и тем же сюжетом, которые содержат иконографические аллюзии на непорочное зачатие Иисуса. Оба символа Девы — улитка и ваза — должны играть одинаковую роль. Какую? Если вам еще не доводилось, прочтите отрывок из Луи Марена о вазе Филиппо Липпи: она расположена «между крайней границей пространства на картине и крайней границей пространства, откуда на нее смотрит зритель». Художник подчеркивает, «отмечает» место «невидимого обмена взглядами зрителя и картины»: он подчеркивает место проникновения взгляда в картину.
Вы скажете мне: предположим, что Марен определил идею Филиппо Липпи, но какова была мысль Франческо дель Коссы? Как ему удалось (даже метафорически) сделать из улитки место, где наш взгляд проникает в картину? Предположим, что этот брюхоногий моллюск, навострив рожки и широко раскрыв глаза, приглашает нас взглянуть на картину совершенно поособенному. Пускай. Но как именно взглянуть?
Я вас разочарую, но ответ прост: метафору следует понимать буквально. Признаем, что улитка может быть символом Девы Марии, Богоматери; признаем также, что она на нее совершенно не похожа: Дева никогда не выглядела как улитка. Утверждать обратное было бы безумием (спутать объект-знак с объектом-вещью) или богохульством. Однако все это совершенно нормально в аллегорическом контексте позднего Средневековья. Расположив улитку на краю картины, и не в вымышленном пространстве, а на реальной поверхности, Косса таким образом подчеркнул ее присутствие на картине, приглашая нас составить в уме уравнение: как, и вам это прекрасно известно, в действительности улитка не является Девой, так и это «Благовещение», на которое вы смотрите, не является Благовещением, произошедшим в Назарете почти тысяча пятьсот лет назад. Речь идет не только о месте встречи или характере персонажей, типичных для XV века, совершенно не похожих на тех, что жили в Палестине незадолго до рождения Христа. Речь идет именно о самой картине, самом изображении. Фигура в центре картины не похожа на Марию, улитка подсказывает, что сама картина не является точным изображением и неизбежно не соответствует представленному на ней событию — самому, так сказать, сверхграндиозному смыслу встречи Гавриила и Марии, который спустя столько веков легитимизирует изображение. Другими словами, улитка, символ непорочного зачатия Марии, дает зрителю понять, что «Благовещение» никогда не даст нам увидеть чудесную цель Благовещения: божественное воплощение Спасителя. Гениальность Коссы как раз в том, что он указал эту границу изображения, выведя улитку на сцену как раз на пороге изображения, на его границе.
И все это происходит с простой улиткой? Именно здесь, несмотря на сказанное выше, вы говорите о чересчур вольном толковании. Тем не менее я не откажусь от него, и на то у меня есть несколько причин. Во-первых, в Ферраре в те же годы коллега Коссы Козимо Тура также написал «Благовещение», чья величественная перспектива, по всей видимости, преследовала аналогичную цель — во всяком случае к такому выводу приходит Кэмпбелл в своем безупречном анализе. И потом Косса не единственный, поместивший на краю картины животное или предмет, ставя под сомнение статус изображения. Для начала стоит упомянуть яблоко и тыкву (или огурец), которые Карло Кривелли изобразил в 1484 году у края картины «Благовещение» из Лондонской национальной галереи. Ничего не напоминает? Вы правы: тыква, словно специально выдвинутая на первый план картины, играет роль оптической иллюзии и в том виде, как она изображена, совершенно неуместно лежащая прямо на фиктивной мостовой, подчеркивает прежде всего искусность перспективы и смелое визуальное решение. У Кривелли божественное всемогущество пренебрегает человеческой геометрией: золотой луч, падающий высоко с неба в комнату Марии, абсолютно плоско вписывается в поверхность картины, напоминая таким образом о собственной материальности, отрицает вымышленную глубину изображенного пространства.
Улитка Коссы не обманка, поскольку написана на самой картине и не выделяется из пространства. Она ближе всего к мухам, нарисованным на картине. Но эти мухи фламандского происхождения тоже из рода обманок. (Позвольте поделиться с вами одним воспоминанием. Я сам убедился в пользе мух-обманок, когда однажды, войдя в зал музея Метрополитен в Нью-Йорке, увидел, что на картине Кривелли «Дева с младенцем» расположилась огромная муха. Помню, как меня возмутило, что в музее, тем более американском, летают мухи. И только подойдя ближе к картине, чтобы смахнуть насекомое, я понял свою ошибку и обрадовался, как будто меня разыграл фокусник. Я почувствовал себя глупо: мне следовало вспомнить, что Кривелли нравилось рисовать мух на картинах. С вами такая неприятность не случилась бы: вы всегда все помните. Но в конечном счете я предпочитаю попадаться на такие розыгрыши и поражаться живописи, силе ее присутствия.)
______
Вернемся к нашей улитке. На нее больше всего похожа одна саранча, та, что Лоренцо Лотто изобразил на краю картины «Кающийся святой Иероним», хранящейся в Бухаресте. Саранча также непропорциональна по сравнению с остальным изображением (ее длина сопоставима с шириной головы святого), и она явно не обитает в той пустыне, где кается святой. Саранча, изображенная на картине, фиктивно присутствует в нашем пространстве. Изначально зрителю казалось, что саранча расположилась на раме, которая не сохранилась до наших дней, на границе между пространством картины и пространством, где картина висит и являет себя посредством этой рамы и этого насекомого, совершающего опустошительные набеги. Иначе говоря, саранча Лотто, как ваза Липпи, как улитка Коссы, позволяет отметить место проникновения нашего взгляда в картину. Саранча не указывает нам, на что именно смотреть, она подсказывает нам, как рассматривать то, что мы видим. Думаю, можно даже сказать, какой именно взгляд в нас вызывает эта саранча. Не нужно задаваться вопросом, как видит саранча. Лотто об этом ничего не знал, и, конечно, эта проблема его не касалась. В любом случае этот вопрос волновал его меньше всего, поскольку он знал, чтó именно саранча могла означать в живописи. Восьмая казнь, посланная Богом на Египет, чтобы одолеть фараона, не подчинявшегося его воле, она иногда встречается в живописи в руке Христа и этом случае напоминает уже об обращении многочисленных народов в христианство. Саранча, изображенная в своем естественном виде на картине «Кающийся святой Иероним», подает нам знак: с ее помощью отмечается место, где объединяются и меняются местами пространство зрителя и картины. Саранча словно призывает нас мысленно проникнуть в картину, примерить на себя изображение (как скажут благочестивцы XVII века — хотя только Богу известно, был ли Лотто благочестивым!) и поступить в нашем реальном мире так же, как поступил святой Иероним в своем: бежать от земных искушений и, вместо того чтобы предаваться ярким воспоминаниям о соблазнах, отдаться без остатка (вплоть до мазохизма) любви к Христу.
С этой саранчой вы согласны. В любом случае Лотто был чудаком, и такое объяснение его картины вполне соотносится с тем, что вам известно о нем: «добродетельный, как сама добродетель», по слову злого Аретино, ярый христианин, католик до такой степени, что поддерживал протестантский христоцентризм и попросил похоронить себя в базилике в Лорето, прямо в полу, как можно ближе к Дому Богородицы.
К вашему сожалению, я еще больше все усложню: саранча святого Иеронима не объясняет улитку Девы Марии. Это было отступление от основной программы. Оба предмета располо-жены одинаково и поэтому кажутся сходными, но они не схожи друг с другом. Их разделяет одно, пусть небольшое, но решающее отличие. Саранча обитает в пустыне. Говорили, что святой Иоанн Креститель питался саранчой, удалившись от мирской жизни. Саранча также часто сопровождает отшельников в их мистических опытах. Лотто же не изобразил ни одной саранчи рядом с кающимся святым (только две змеи и скелет птицы). Поэтому можно подумать, что она покинула картину и отправилась в наш мир, чтобы заставить нас глубже проникнуть в изображение. Мауро Лукко назвал это явление «взаимопроницаемостью» мира картины и нашего мира. Если эта взаимопроницаемость существует, то тогда присутствие саранчи логично и ожидаемо в мире святого Иеронима. Улитке же, напротив, нечего делать солнечным днем в начале весны в чистеньком дворце Девы Марии. Выдумка Коссы парадоксальнее, поразительнее — рискну сказать, что она интеллектуальна, теоретична. Ай! Вот здесь-то и возникает проблема. Вы не любите теорию. Но как раз в ней и дело.
Повторюсь, улитка Коссы неотделима от демонстрации перспективы, играющей для нее роль фона. Именно благодаря этому фону на нем улитка оказывается внешней по отношению к пространству картины. Вы потеряли мысль? Я сам ее теряю, но на самом деле не требуется теории, чтобы понять, чтó я хочу сказать. Стоит взглянуть на картину. Я ездил посмотреть на нее в Дрезден. Разумная предусмотрительность, поскольку там меня ожидал двойной сюрприз. Во-первых, картина меньше по размеру, чем мне казалось. Я слишком много изучал ее по репродукциям, а указанные размеры были ни к чему (137 сантиметров в высоту на 113 в ширину), поскольку их не осознаешь. Архитектура дворца Марии настолько величественна, что мне стало окончательно казаться, что картина была большого формата. Но это не так. И вдруг второе откровение: улитка не такая уж огромная. Это очень симпатичная особь, не серая виноградная, а прекрасная бургундская улитка, около восьми сантиметров в длину. Поезжайте туда и сами посмотрите: когда вы стоите у картины, улитка выглядит вполне обыденно. А вот Дева Мария как раз оказалась маленькая, к чему я и вел. Из-за своей непропорциональности улитка частично разрушает фиктивную глубину перспективы и восстанавливает материальное присутствие поверхности полотна, основы изображения. Впрочем, мы с другом-архитектором составили план дворца Девы Марии и пришли к выводу, что план этот совершенно неконструктивный. Дворец впечатляет только внешне. Его величественные каменные стены не толще деревянной перегородки, восьмиугольный стол, на котором лежит книга Марии, упирается в колонну, сундук, служащий непорочным ложем, слишком вытянут в глубину и т. д. Короче говоря, позволю себе нескромность, о которой даже и не помышлял зритель XV века: геометрия картины показывает, что Франческо дель Косса не стремился к точной передаче глубины пространства. Он не Пьеро делла Франческа, ему достаточно намекнуть на эту глубину, якобы существующую позади персонажей картины. Он выстраивает своего рода театральное пространство, чтобы поставить на нем (по-новому, по-другому, превратить в сцену) встречу Бога и его творения.
Где же во всем этом теория? Потерпите, я как раз подвожу к ней. Помещенная в это пространство изображения и определяющая его как таковое, улитка показывает нам — не надо поддаваться иллюзии, не надо верить в то, что мы видим. Вот где суть парадокса, к которому приходит Косса: мастерски передав перспективу, художник украдкой разрушает ее престиж. Но вы правы в своей настойчивости: во что не нужно верить и к чему такая игра? Как раз подходим к этому.
Франческо дель Косса не читал Панофского. Он не знал, что немецкий ученый, оглядываясь назад, определил перспективу как «символическую форму» видения мира, которую логически обоснует Декарт и задокументирует Кант. Он не мог этого знать. Зато к 1470 году ему было известно — этот исторический нюанс обязательно придется вам по душе, — что суть перспективы в измерениях, что этот новейший инструмент позволяет найти и показать, говоря словами Пьеро делла Франчески, общую меру всех вещей. Для Коссы перспектива создает изображение мира, имеющего единую меру, и в самом себе и по отношению к тому, кто на него смотрит с определенной точки зрения. И этот мир не бесконечен. Только Бог бесконечен. Мир Коссы остается конечным, закрытым и человеческих масштабов. В 1435 году Альберти, как раз перед тем, как отрыть свое знаменитое окно, выходящее не на мир, а на выверенную композицию произведения, вспоминает Протагора и его знаменитую формулу «человек есть мера всех вещей». Без сомнения, Франческо дель Косса знал эту особенность перспективы (Альберти нередко бывал в Ферраре).
Теперь мы можем догадаться о той идее, которую он выработал в контексте Благовещения. В 1430-х годах самый знаменитый проповедник той эпохи Бернардин Сиенский очень детально объяснил очевидную вещь: Благовещение — это, помимо принятия Марии, момент Боговоплощения, — то есть, помимо прочего и по определению проповедника, приход несоизмеримого в определенной мере, невообразимого в образе. Взгляните на картину Коссы. Где на ней Бог Отец? Где голубь? Их нужно как следует поискать. Благодаря общей мере перспектива свела Бога к далекой фигурке в небе, прямо над головой Гавриила. Голубь тоже там, в полете, неподалеку от Бога Отца, хотя вы едва его разглядите. Это нормально, голубь похож на след мухи. Перспектива завладела всем на картине: как она могла бы показать самое главное в этой встрече, ее цель и задачу, Творца, входящего в творение, невидимое в видимом? Именно на это улитка нас просит посмотреть или, по крайней мере, это понять.
Впрочем, Косса и здесь не единственный, кто хотел в соизмеримом с человеком образе Благовещения визуально проявить невидимое присутствие того, что ускользает от любого измерения. Фра Анджелико, Пьеро, Филиппино Липпи — их не устраивал диктат Альберти, мол, «художник имеет дело лишь с тем, что видимо». При помощи улитки Франческо дель Косса делает это «по-феррарски», так же точно, как и изысканно. Аномальное присутствие улитки на краю перспективы, на ее пороге, становится своеобразным сигналом зрителю, призывает к трансформации взгляда и поясняет: вы ничего не видите там, куда смотрите. Или, скорее, так: в том, что вы видите, вы не видите того, на что смотрите и чего ждете от того, на что смотрите, — невидимого, проникшего в видимое.
Последний вопрос: вы знали, что у брюхоногих моллюсков плохое зрение? И что еще хуже: кажется, они вообще ни на что не смотрят. Они ориентируются иначе. Несмотря на то что их глаза расположены на выставленных вперед рожках, они практически ничего не видят. Самое большее, что они могут, — различать интенсивность света и действовать «по запаху». Косса, конечно, не знал об этом, как и вы. Но ему этого и не требовалось, чтобы превратить улитку в образ слепца. Не знаю, что вы об этом думаете, но у меня просто нет слов.
Перевод — Елизавета Кузнецова